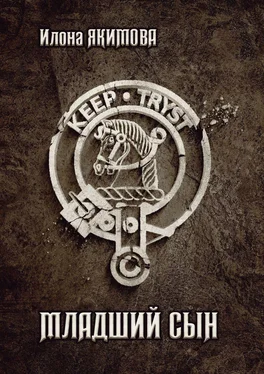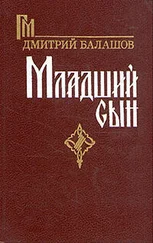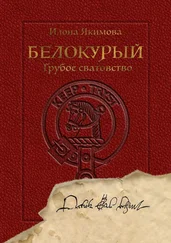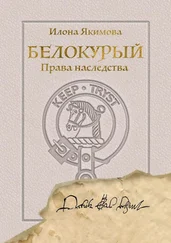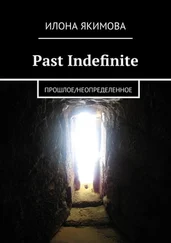Мне выдали две рясы новиция, веревку, штаны и капорон до пояса, башмаки позволили оставить свои. Помню, как к исходу первого месяца в монастыре, в конце мая меня посетило проникновение Духа. Я всегда понимал Его как прозрение, понимание сути человека и вещи из тех, которые передо мной, не как мистический экстаз – подобный опыт мне неведом. Я думал о бедняке из Ассизи, о том, какой новой стороной поворачивается ко мне мужественность – ко мне, отторгнутому из семьи, как ни на что не годный отщепенец. Стало быть, если так, положение мое как раз наиболее завидно? Чем больше унижен, тем сильнейшим доведется мне встать с колен? И разве это не мужественность – укрощать зверя в себе часу от часу и день за днем? Быть может, дядя Джордж прав? И только простаки слепы к чудовищному напряжению сил, которое потребно монаху, дабы не сбиться с пути? И какого рыцаря не оборол бы я тогда силою духа? И какой цели тогда бы я не уязвил словом?
Из кузницы раздавалась мерная капель мелкого молота, размашистое уханье крупного. На моих ладонях цвели и лопались волдыри мозолей – вчера я сам был там в подмастерьях. Завтра мой черед помогать в лазарете. Братьям-миноритам заповедано трудиться всякий час, который не занят молитвой или вот, учебой. В кухне пекли хлебы, сытный запах тек над двором, голодная слюна затопила рот. Я склонился к странице, перечитывая ее в третий раз. Единственное, чего просил у меня Франциск, а я не мог, так это возненавидеть человеческое тело, оно казалось мне совершеннейшей диковиной тогда, вызывает восхищение вложенной в него мощью Творца и теперь. И все же в нем, во Франциске, было неизмеримо меньше ненависти, чем в окружающем меня тогда мире, в котором даже близкие лгали и убивали с завидной легкостью. Простачок из Ассизи вошел в мою душу именно тем, что я повторял сейчас его путь – отказавшись от мечты стать рыцарем, удалялся в безмолвие. Ведь они, серые братья, подчас говорили молча. Не все, конечно, но было порядком тех, у кого слова считались истинно суета. Постепенно я тоже привык доверяться жестам. Я почти забыл ощущение рукояти меча-бастарда в ладони. Если теперь мне нужно еще и разучиться ездить верхом – что ж, я готов был и на это, таким сходным казался мне выбранный путь. В юности я каждый чужой путь примерял на себя, и следовал им, и сбивался с собственной дороги. И понял только потом, много лет спустя, что для каждого путь у Господа свой.
Страницы шептались под пальцами. Госпожа святая Любовь, Господь да спасет тебя с сестрой твоей святой Покорностью … Восхваляем Ты, мой Господи, со всем Твоим творением, начиная с господина брата солнца… Восхваляем Ты, мой Господи, и за сестру луну. Брат Солнце, сестрица Луна… у меня они были, вот как он узнал, что я из той же небесной семьи? Помню, я сидел во дворе, на солнце, оттаивал после долгой зимы моего детства… и глотал подлинные поучения святого Франциска и легенды о нем, как в детстве же – сказки старой ведьмы Элспет МакГиллан. Каждое лыко в строку, каждая строка под кожу, словно заноза, однако от тех шипов распространялся не зуд, но мед. Они, напротив, залечивали мои раны. А потом пришел старый брат Лаврентий и начал браниться, чтоб я не смел выносить книги из библиотеки на воздух, ибо тут – сырость и голуби. В обоснование брани ссылался он, конечно же на Устав, глава десятая: «и чтобы не стремились не знающие грамоте обучиться» …. Впрочем, прибавлял он здраво, с тобой-то что ж сделаешь, если ты уже учен, на беду твою? Накинулся на книгу в моих руках, как коршун, унес прочь. Вместе с ней унес он и то прозрение, которое не получило полной формы в душе, ушло вместе с книгой… Слава Богу, брат Лаврентий, порицая ученость, был одинок в столь строгом исполнении первого Устава.
– У тебя хорошая голова, Джон, – говорил настоятель, сверяясь с моими успехами, когда радостно, когда с оттенком изумления.
Хорошая голова? Первый раз меня хвалили за то, что меня отличало от братьев и так мешало мне среди них. Странник и пришелец в этом мире – да, именно так я себя и чувствовал. Я с таким рвением взялся изучать все, что имело отношение к святому Франциску, что на некоторое время отец Джейми посчитал, будто призвание открылось моей душе. Но то было обезболивание, а не призвание. Крещеный быть воином, я окончательно простился с надеждой на отцовскую любовь и потому искал любви Господа – в замену тому, смертному отцу. Тот же поистине любит врага, кто не о причиняемой себе несправедливости скорбит, но в любви к Богу сокрушается о прегрешении его души. И произрастает из его страданий любовь. Из моих не произрастала. В меня это не вмещалось. Избавленный от общества средних братьев, я почти не злился на них, вспоминая, но любить даже не пытался пытаться – не выходило. А при воспоминании о Босуэлле, напротив, как бы приближался к чему-то огромному, темному, ежился и тут же отходил в сторону – внутри себя. Нет, праведной любви Франциска мне пока не постичь. Я бы тоже снял с себя плащ и отдал все деньги, как сын Петра Бернардоне, когда бы имел – чтобы вернуть себя Богу, чтобы оторвать себя от рода, раз род оторвал меня от себя. Претерпевший же до конца спасется – эти слова в итоге не обманули. Но где был тот мой край, когда мера страдания «до конца» пройдена и спасение близко? В юности мне казалось, что – в каждом дне. Меня жгло и терзало – болью отвергнутой любви, несправедливостью попранной чести. Как же молод я был. В «Светоче Лотиана» я впрямь оттаял, и мне впервые почудилось, что – вот здесь мне и место. Меня стала манить спокойная, размеренная жизнь монаха, жизнь, в которой ничего не нужно решать, где все решено за тебя…
Читать дальше