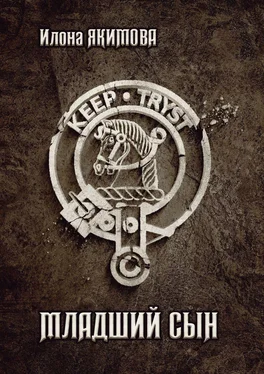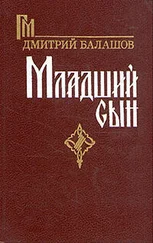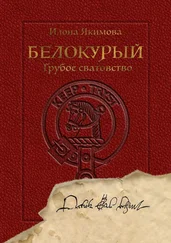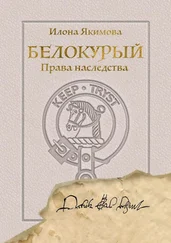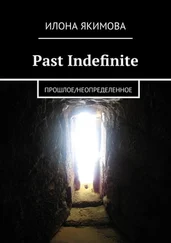– Ты поступил как глупец, отправившись с Адамом охотиться на кабана, ибо не обладаешь должными навыками для того, чтоб делать это правильно, размеренно, верно. Ты слаб, твой разум неустойчив. Что толкнуло тебя к подобной детской глупости?
– Мое рождение. Мое предназначение, милорд.
Казалось, он удивился:
– И в чем же оно?
Давешний разговор с Адамом в лесу ударил мне в голову:
– Быть рыцарем. Разве это не единственно верно для вашего сына?
– Для моего сына – возможно… Но первое достоинство рыцаря – послушание, чем ты не благословлен именно от рождения. Всякий, желающий обучиться науке рыцарства, должен выбрать себе мастера для повиновения. Господина. Здесь, – молвил он, – твой господин – я.
Я молчал.
– Или, – прибавил он, забавляясь выражением моего лица, – можешь выбрать, чтобы служить, кого-нибудь среди своих братьев. Уилл и Патрик еще не посвящены, конечно, но вполне сведущи и…
– Адам, – сказал я без колебаний, – я выбираю Адама.
– Да только это все равно напрасно, и не приведет ни к чему.
– Почему же, милорд?
– Потому что ты ни на что не годен, Джон Хепберн.
Мне показалось, что сейчас имя рода он произнес с большим отвращением, чем имя собственное, как если бы соседство с моим марало и род.
– Ты ни на что не годен, – повторил он.
Я вышел из холла – на дворе еще стояло тепло, но мне показалось, что меня опустили в погреб. Двенадцать ступеней, двенадцать добрых дубовых досок, стертых и моими ногами также. За свои десять лет я выучил на них взглядом каждую щербину, ибо мне частенько приходилось опускать глаза. Теперь я опустил их, чтоб скрыть злые слезы.
Все как всегда. Я не знаю, кого мне нужно убить, чтобы отец переменил свое мнение.
Рука Адама внезапно легла мне на плечо, сжала, потом он притянул меня к себе, коротко потрепал по волосам и отпустил – наследнику Босуэлла ни к лицу выражать чувства прилюдно.
– Не бери в голову, Джон. Не противоречь. Не стой так явно у него на дороге. Возможно, он передумает. Я поговорю с ним. Леди-мать отмолит…
– Ты веришь в это?!
Кажется, я первый раз сказал ему это так, на равных. Впервые позволил себе горечь взрослых.
Адам взглянул на меня внимательно:
– Младший? А ты растешь.
– Да и как леди-мать отмолит, если они наверняка уже повздорили из-за Роуз? Видел, как она сложила ложку с ножом?
Посеребренная материна ложка служила ясно звучащим глашатаем войны, мы научились читать ее фигуры. Адам вздохнул, но не возразил, и повторил только:
– Ты, Джон, взрослеешь.
Приятная прохлада сыроварни, адское пекло хлебного жара в кухне старого Саймона. Говор Тайна за речной стеной, шепот ручья – за наружной. Мардж все-таки отнесла феям засахаренные яблочные шкурки. Я же снова прятался по темным углам и думал, думал, думал, как бы переменить сжигавшее меня несправедливое мнение обо мне. Я взрослею? Это так называется? Если взрослость – время большей боли, тогда конечно.
Едва наступил день, наступил и свет. Взревели трубы. Я скатился с постели.
Во дворе, наполненном влагой утра, уже происходило… еще вчера по теплу было лето, сегодня же воздух тонко напоен тленом. Чертыхаясь, я прыгал на одной ноге, натягивая сырые чулки и штаны, путаясь в шнурках дублета, ненавидя всех окружающих – почему не разбудили? Сегодня день свадьбы моей драгоценной сестры, понимаю, но неужели я настолько пренебрежим, что предпочли просто забыть в углу, как сломанного «сарацина», ненужную турнирную куклу? Тем паче, что он и предстоял, турнир.
В кухне кипело три дня подряд, прачки орали на мостках друг на друга, столы вносились в холл, из часовни несло ладаном, туда-сюда прыскали слуги в ливреях всех цветов. Повсеместно светились полумесяцы герба Ситонов, «вперед и в опасности!» – девиз, как нельзя более подходящий для нашей Джоанны. Двор люто шумел и переливался гомоном, говором, конским ржанием, окликами слуг, пажей, поварят с раннего утра. И только господа прохлаждались – как им положено. Господа ожидали церемонии бракосочетания и обеда. Его величество в компании Крейгса и господина графа, стоя во дворе на помосте, возведенном для зрителей к турниру, с видом знатока обсуждал новый доспех Босуэлла, сегодня доставленный от оружейника, латную рукавицу к которому, украшенную тонкой чеканкой, облекавшую руку легчайше, как кожа, не как металл, господин граф и предъявлял гостям. В полном – так и хотелось сказать боевом, но нет – церковном облачении дядя Джордж поднимался по ступеням ко входу в часовню, вероятно, принимать исповедь новобрачной, Джоанны, как и Ситона, нигде видно не было… Поднимался, предварительно похлопав по плечу Адама, встающего с колен перед королем, вкладывающего в ножны собственный меч.
Читать дальше