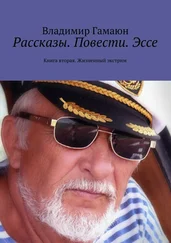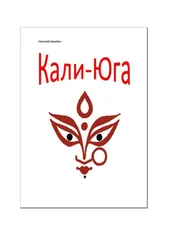— Я несчастна? С чего вы взяли?
— Но я предоставляю вам две возможности любить меня: мой подарок и мои слезы, а вы их упускаете».
Или, скажем, он все пытается перейти со мной на «ты».
«— Если вы станете обращаться ко мне на „ты“, мне будет почти так же неприятно, как если бы вы касались меня.
— Вы холодны, дорогая моя.
— Что же тогда удерживает вас у меня, милостливый государь?»
И Гёте отвечает:
«— О, я ценю холодность в женщинах, она заменяет им самостоятельность мышления».
Как можно продолжать такой разговор?
Поймите, я сержусь на Гёте не за его находчивость. Он не находчив, ничуть. Он часто не знает, что ответить на самое простое замечание. Я была бы счастлива, будь он находчив: с находчивыми людьми легче всего справиться. Ты говоришь одно, он говорит нечто прямо противоположное, ты утверждаешь обратное, тем все и кончается.
Нет, эта колкость Гёте была почти искренней. Он в самом деле ценит холодность.
У этого человека нет характера. Ни единой привычки, к которой можно было бы придраться, ни единого принципа, который можно было бы уязвить. Пока нащупываешь у него слабое место, обнаруживаешь, что у него и сильного-то ни одного нет, и чувствуешь, что сама теряешь почву под ногами. Начинаешь обдумывать следующий шаг, делаешь ошибки, уступаешь там, где следовало бы проявить твердость, отталкиваешь там, где хотелось бы привлечь. И неожиданно оказываешься лицом к лицу уже не с его слабостями, а со своими собственными.
Мужчина — это постулат. Женщина — это совокупность всех возможных опровержений данного постулата.
Гёте — это совокупность всех возможных постулатов, в том числе и их опровержений.
Он сама неопределенность, и все же он не есть никто. Он всегда есть он, в этом нет ни малейшего сомнения. «Как? — спросите вы. — Он всегда он, и в то же время он не постулат? Тогда кто же он?»
Я вам скажу, ибо он достаточно часто давал мне это понять. Он бог, ничуть не меньше. Он и притязает на права бога, то есть на безграничное себялюбие. Например, он много спит. Представьте себе следующую сцену. Я читаю ему нотацию. Он впадает в неописуемое возбуждение, скрипит зубами, катается по земле, хуже, он приводит в беспорядок свою прическу — вы знаете, что мне по крайней мере удавалось заставлять его держать волосы в порядке. И посреди всего этого он вытаскивает из жилета часы, заводит репетир и заявляет: «Прошу прощения, сударыня, перенесем нашу беседу на другой раз, завтра я должен закончить главу „Вильгельма Мейстера“ [53] Закончить главу «Вильгельма Мейстера». — Гёте начал работать над «Годами учения Вильгельма Мейстера» в 1775–1777 гг.
, и мне необходимо вздремнуть, чтобы несколько освежиться».
Разумеется, я не пускаю его. Он должен остаться, но он хочет уйти; через полчаса, ну через час, он добивается своего. Я и сейчас краснею, когда вспоминаю об этом. Сознаюсь вам — только через десять лет я поняла, что этот час промедления он заранее предусматривал, рассчитывая время своего ухода.
Может статься, что Гёте десять долгих лет, днем и ночью, страдал из-за меня. Но я готова прозакладывать душу, что он не потерял из-за меня и десяти минут сна.
Сколько может женщина выносить такое? Кого из смертных не ожидает работа? Какой человек в момент, когда должны пролиться слезы отчаяния, дерзнет ссылаться на свою потребность в отдыхе? Если ты в отчаянии, что значит для тебя усталость? А Гёте именно таков, ибо он — бог. Разве возможно, чтобы божество не выспалось к утру? Да тогда солнце не взойдет!
Есть только одно различие. Боги бросают свою тень на наш мир, но благое чувство гармонии запрещает им обретаться среди нас. Мы почитаем их, поелику их недосягаемость смягчена забвением или удаленностью, — чтобы жить с нами, им просто не хватает манер.
Я допускаю, что мои нападки иногда теряли тонкость и часто опускались до уровня бессмысленных оскорблений, наносимых мимо цели. Но как целить в то, что не имеет сущности? Где у бога ахиллесова пята?
Слабость, которую люди скрывают всего старательнее, — страх — он обнаруживает всего охотнее.
«— Я боюсь этого большого света, ваших глаз, вашего пуделя». И как он в этом признается? С самодовольной миной, как другие признаются, что выиграли битву. Я начинаю браниться:
«— Вы отнюдь не боитесь приглашать меня, хотя в контрдансе являете собой весьма жалкое зрелище.
— Мой страх остаться без вас был сильнее».
Я говорю первое, что приходит в голову:
«— A propos, вы и верхом почти не умеете ездить.
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)