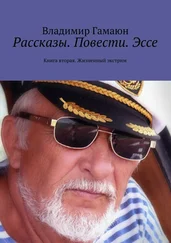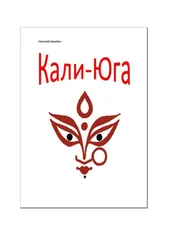Надеюсь через две недели стать
человеком, пока же я только абстракция.
27.12
В последнем письме своем к Каролине он написал: я простил судьбе тот удар, после которого отравленным оказалось все, даже память о прошлом.
Это было в воскресенье, а сегодня — среда. Несмотря на все усилия, он не мог оторваться от койки. Он ощущал подагру и в левой руке, и в кишках, и в желудке. Его непрерывно рвало, и все, что бы он ни ел и ни пил, даже молоко с медом, организм немедленно извергал, и его мощное, как у медведя, тело постепенно становилось скелетом. Петр Малишевский привел трех врачей. Они особенно призывали его бороться с душевным недугом, с депрессией. И разве они не правы? Он ощущал депрессию все больше и больше. Пока не будет покончено с этим браком, я не вылечусь — так заключил он письмо.
Но он хотел жить. Должен был жить. Терпение, только терпение! Так он говорил себе и другим. Только бы продержаться эту зиму. Потом будет легче. Может, боли и бессонница останутся, но опасность минует.
Начиная с лета Каролина писала ему из Луки, деревни под Альтенбургом. В ноябре она разрешилась сыном, отцом которого был некий Крансе, молоденький лейтенантик, адъютант генерала Дуаре. Он вспомнил его. Год назад они были с Каролиной в гостях у Форстера. Та настаивала, чтобы он не прекращал свои приемные «чайные» часы и хотя бы на рождество собрал гостей. Через неделю, в новогоднюю ночь, перед дворцом бежавшего курфюрста, и котором Кюстин устроил бал для немецких якобинцев и французских офицеров, был разожжен огромный костер, в котором население жгло обширный архив из бумаг и актов, кои скрепляли их закрепощение. Кругом был пьяный гвалт. Он, Форстер, выпил мало. До самых последних часов уходящего года он все еще работал над своей речью, которую хотел произнести в качестве нового президента клуба. Братья! Вы собрались сюда ради истины!.. Вы чувствуете высокое достоинство человека, вы поклялись до последнего вздоха защищать его свободу, его на разуме основанное право и его равенство с другими людьми…
Небо стало голубым и холодным, вытряхнув вчера весь свой снежный запас на землю, укутанную теперь пухлыми хлопьями. Площадь была черным-черна от народа. Тысячи мужчин и женщин. От их горячего дыхания, казалось, таял снег, капало с крыш соборов и домов. Маленьким и невзрачным казалось только дерево свободы, посаженное на площади еще осенью. Оно простерло в холодном воздухе свои голые ветви, как паутину. Не слишком-то удачный символ, подумалось ему. Красная фригийская шапочка па макушке дерева уже полиняла и грозила вот-вот свалиться. Но толпу это мало смущало. Кто-то предложил посадить новое, и вот уже откуда-то взялся могучий дуб, грозно возвысившийся над площадью. Да здравствует свобода! Да здравствует народ! Да здравствует республика! Мощное эхо перекатывалось по площади. Когда же запылал костер, в него полетели дворянские грамоты и свидетельства о привилегиях, а вслед за ними и сама имперская конституция.
Отсалютовали пушки. Загремела музыка. Толпа пела «Са ира» и «Марсельезу», новый революционный гимн. Костер горел до позднего вечера. Как на каком-нибудь развеселом карнавале, французы и немцы братались до поздней ночи и танцевали карманьолу.
Танцевала и Каролина вместе со всеми.
Она была на редкость оживлена и раскованна. В свои темные волосы вплела трехцветные банты. Он отвел ее домой, она повисла на нем. Когда же он привел ее в спальню, которую ей завещала Тереза, она закрыла дверь изнутри, а ключ спрятала в постели. Тут только он заметил, что, как ни была она пьяна, цель свою из головы не выпускала. Зардевшись, как пунцовый мак, она раздевалась перед ним. Без преувеличенного стыда, будто само собой разумеется. Сегодня — видимо, по какой-то ассоциации — ему вспомнилось, как бонвиван Гёте признался однажды в том, что совершенно нагую женщину он увидел только в тридцать пять лет, и было это где-то в Швейцарии, где он специально заплатил за это удовольствие.
После напряжения последних дней ему было как-то не до этого… Но он был мужчина и изголодался не меньше, чем она.
Потом он все же нашел, что лучше было этого не делать. Может быть, он недооценил Каролину, хотел ее только использовать, не спрашивая о том, что заставило ее удовлетворить свою страсть именно с ним.
Ревность к Терезе вряд ли могла быть причиной. Жорж, призналась она, я ни о ком не мечтала столько, как о тебе, — со дня нашей первой встречи, ты помнишь? Мне тогда было пятнадцать. Ты еще накинул мне на плечи какую-то ткань, привезенную с Гаити. И с тех пор я никого не любила, кроме тебя, ни о ком не думала, только о тебе, — а ты так мало обращал на меня внимания…
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)