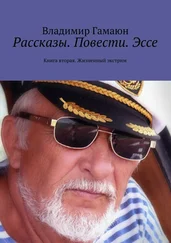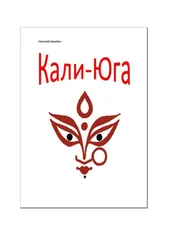Этот Клеменс любит себя послушать.
А Клейст все смотрит.
Группа, от которой отделилась барышня Гюндероде, постепенно распалась, словно утратила центр притяжения, все разошлись по зале, присоединяясь к другим группам. Несколько кавалеров окружили Беттину, та усаживается за клавикорды. Она тут же начинает импровизировать, такого ни в каких нотах не сыщешь.
— А я с листа не умею, — доносится до него ее голос и заливистый смех, при звуках которого он просто теряется: то ли сердиться на это сумасбродство, то ли принять как есть, может, и вправду натура такая. Признаться, ему спокойней и милей, когда женщина держится в рамках, как вот Гунда или Лизетта, жены Савиньи и Эзенбека, — они устроились на диванчике под большой картиной; простой пейзаж, но как играет зеленый цвет, сколько изощреннейших оттенков — и пожалуйста, вот вам и композиция, и глубина, и живость. Смешная мысль: другой художник, встав на его место, мог бы изобразить и диванчик, и этих столь непохожих друг на друга дам, и — очень тщательно — пейзаж над их головками. Получившаяся картина могла бы украсить соседнюю стену, вон там, над этим вальяжным комодом, и вместе с предыдущей образовала бы новый сюжет, достойный кисти очередного автора. И так далее. А что, в своем роде новшество и пригодилось бы в живописи.
Ведекинд интересуется, не разочарован ли он поездкой.
— Ну, что скажете? Как вам наш край? А люди?
— Вообще-то, — отвечает Клейст осторожно, — Рейн я видел и раньше.
— Разумеется. Но солдатом. Это совсем другое дело. Когда шагаешь в мундире, не до красот.
Тут он прав. Клейст даже побаивается говорить с ним, уроженцем Майнца, о том времени, когда он, пятнадцатилетний фенрик прусского короля, осаждал этот город. Одиннадцать лет назад это было, и в другой жизни. И воспоминания бы не осталось, не закрепи он его в словах, — теперь с помощью слов он всегда может воскресить в памяти, что чувствовал, когда шел навстречу вечернему ветру, навстречу Рейну и казалось, волны воздуха и воды напевают ему вкрадчивое адажио и он слышит мелодию во всех ее переливах, во всем полнозвучии.
Именно так — надо надеяться, достоверно — он все это и поведал много позже в письме к Вильгельмине фон Ценге, впрочем вполне отдавая себе отчет, что пером его водит не столько желание открыться, сколько соблазн слов; вот почему иногда он, не задумываясь, пишет самым разным людям в одинаковых выражениях и по части искренности — он же чувствует — перед всеми в неоплатном долгу. Даже когда невесту упрекал в холодности — все взвалил на себя, обвинения, укоры, жалобы, каждым росчерком пера в себя метил. Что делать, себя не переиначишь, ей бы пришлось волей-неволей все это терпеть. Нетрудно вообразить, как судачат теперь о нем злые языки во Франкфурте. Вскружил голову честной девушке, поманил свадьбой и бросил. Почему его это так задевает? Чем объяснить паническое смятение при одной мысли о новой встрече с ней? И почему, раз чувство не выдержало испытания разлукой, все еще так силен страх: лучше умереть, чем взглянуть ей в глаза?
Почему? Да потому, что угрызения совести страшнее упреков возлюбленной. Безнравственность! Где им знать, что это такое. А он знает. Жить не ради жизни, жить не для людей, кругом в долгу — вот что это такое. Чувствовать настоящую жизнь, только когда пишешь… Полгода, что он провел в доме Ведекинда, — в глубине души он знает: это тяжкое время было блаженной передышкой. В таком состоянии и думать нечего о писательстве. Когда смерть рядом, тиски ослабевают. Живешь, чтобы жить. Как это выразишь?..
Пора подумать о другом.
Надворный советник знает: когда пациент так погружен в себя, самое время его развлечь.
— Как вам нравится общество?
— Что? Ах общество…
— Мило, не правда ли?
— Весьма.
Есть, правда, маленькое затруднение: если случится заговорить вон с той женщиной, он не знает, как к ней обратиться.
— Простите? — Ведекинд переспрашивает осторожно, главное — не выказать удивления. Значит, внимание Клейста привлекла девица Гюндероде? Что ж, этому делу помочь нетрудно. Поскольку она не замужем — кстати, она тоже подвизается на ниве поэзии, правда не под своим именем, — обращение «мадемуазель» или, на худой конец, «барышня» вполне уместно.
И все же. Что-то ему мешает, трудно сказать что. «Барышня» решительно не годится. Нужно какое-то другое слово, а вот какое, он никак не вспомнит. Беттина — та, конечно, то и дело кличет подругу просто Линой, а Лина меж тем внимательно, но безучастно внемлет Клеменсу, который лебезит перед нею в позе просителя. Другие сверстницы зовут ее Каролиной, ему это тоже не подобает. А уж прозвище, каким обласкал ее Савиньи (она прямо просияла от радости), — и подавно. Гюндерозочка.
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)