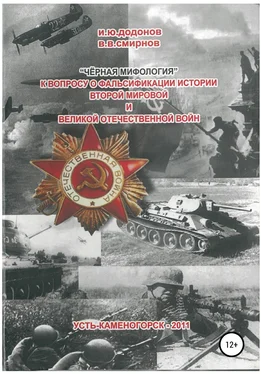Возведение УРов началось, таким образом, не в 30-х, как пишет Резун, а во второй половине 20-х годов [82; 86].
Одними из первых в 1926-1928 годах начали строить Полоцкий и Карельский укрепрайоны с долговременными фортификационными сооружениями и постоянным гарнизоном [14; 53-54]. До этого момента практические работы по возведению укреплений из-за ограниченных возможностей страны почти не велись. Но подготовка к созданию УРов шла полным ходом: исследовались системы и формы военно-инженерной подготовки различных ТВД, разрабатывались фортификационные конструкции, типовые полевые и долговременные сооружения из железобетона и брони, проводились их полигонные испытания путём артобстрелов, взрывов, бомбометания с воздуха [14; 53].
С 1928 года строительство укрепрайонов приобрело масштабный характер [14; 54]. В соответствии с разработанными теоретическими взглядами, долговременные укрепрайоны строились на наиболее вероятных направлениях наступления противника на конкретных театрах военных действий. Важно отметить, что на границах СССР не создавалось сплошных укреплённых фронтов[14; 55]. Это было весьма дорого, да и не требовалось, так как угрозы исходили, прежде всего, от моторизованных и танковых войск, а танкоопасных направлений было ограниченное количество. Именно их и необходимо было прикрыть. Укрепрайоны возводились на важнейших операционных направлениях, ведущих в глубь советской территории, с большими промежутками между ними.Такая система была рассчитана на тесное взаимодействие постоянных гарнизонов УРов с полевыми войсками и в целом соответствовала ожидаемому характеру начального периода войны, учитывая огромную протяжённость советских границ. [14; 55].
К 1938 году в западных районах СССР было создано 13 укрепрайонов: 1) Карельский; 2) Кингисеппский; 3) Псковский; 4) Полоцкий; 5) Минский; 6) Мозырьский; 7) Коростенский; 8) Новоград-Волынский; 9) Летичевский; 10) Могилёв-Ямпольский; 11) Киевский; 12) Рыбницкий; 13) Тираспольский [14; 61]. В них имелось 3 196 оборонительных сооружений (из них 409 – для капонирной артиллерии), которые занимались 25 пулемётными батальонами общей численностью до 18 тыс. человек [14; 61].
Все эти укрепрайоны находились в эксплуатации, но, как отмечают исследователи, «они уже не отвечали требованиям времени, так как могли вести главным образом фронтально-пулемётный огонь, имели недостаточную глубину и необорудованный тыл, слабую сопротивляемость сооружений и малоэффективное внутреннее оборудование» [14; 61].
В 1938 году начался второй этап строительства УРов.
Пытаясь увеличить плотность укреплённых районов на западных границах, советское правительство приняло решение о строительстве ещё 8 укрепрайонов: Каменец-Подольского, Изяславского, Островского, Остропольского, Себежского, Слуцкого, Староконстантиновского, Шепетовского [14; 62].
Одновременно продолжалось совершенствование уже построенных укрепрайонов. В них росло число огневых сооружений различного типа, усиливались препятствия, увеличивалось количество минных полей. Для усиления противотанковой обороны в дотах устанавливали артиллерийские орудия. Старались повысить защитные свойства уже существующих долговременных сооружений, для чего их дополнительно бетонировали. Вообще в старых УРах в 1938-1939 годах было забетонировано 1028 сооружений [14; 63]. Это очень большой объём работ.
Но, несмотря на довольно большие выполненные объёмы, и в 1938, и в 1939 году планы строительства в укрепрайонах были фактически сорваны. В 1938 году план был выполнен на 45,5%, а в 1939 – на 59,2% [14;63]. Главная причина срыва заключалась в том, что советская промышленность не смогла обеспечить строительство всем необходимым. Так, в 1938 году в распоряжении строителей поступило от запланированного 28% цемента и 27% леса. В следующем году поставки несколько улучшились, но всё равно по отдельным показателям не достигали и половины. Например, леса – 34%. Цемента же поставили чуть больше 50% (точнее, 53%) [14; 63].
Конечно, с такими объёмами поставок выполнить план строительства долговременных сооружений даже при хорошо организованной работе было нереально. Но и организация работ хромала, что было, впрочем, естественно при таких объёмах строительства.
В итоге, комиссия Главного военно-инженерного управления Красной Армии в 1939 году отмечала, что вновь сооружённые и совершенствуемые долговременные сооружения ещё далеки от полной боевой готовности. В частности, отмечалось, что многие «сооружения не имеют боевого вооружения и внутреннего оборудования» [14; 63].
Читать дальше