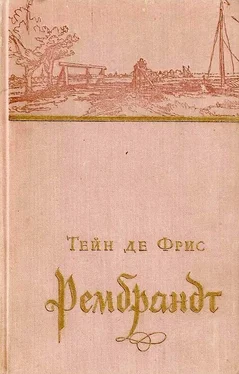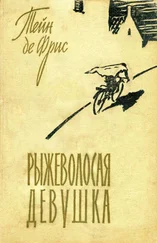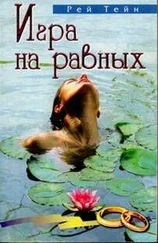Они уже позировали три часа, и очень устали от неподвижного сидения. Вдруг Рембрандт встал и отбросил кисть в сторону. Схватив обрученных за руки, он потащил их к мольберту. Изумленно посмотрели они сначала на сырой холст, а затем друг на друга.
Рослый стройный мужчина с чертами Титуса, облаченный в золотую парчевую и по-восточному роскошную одежду, нежно и покровительственно держал правую руку на сердце стоящей рядом с ним молодой женщины с лицом Магдалены, на красном парадном платье которой искрились драгоценные камни; руки ее в трогательном жесте сходились на животе.
Это было совсем не то, что они ожидали. Они позировали сидя, а на картине влюбленные стояли во весь рост; они смотрели друг другу в глаза, а на холсте — невеста смотрит перед собой, точно в предвкушении неизведанного счастья, а взгляд мужчины почиет на ней с доверием, с мужественной нежностью.
Глубоко тронутый, Титус посмотрел на отца, а он, сутулясь, с легкой усмешкой на губах, наблюдал за их восторгом. Впавший в детство, одряхлевший Рембрандт, едва сознававший, что вокруг него происходит, создал извечные образы невесты и жениха — такие, какими они живут в мечтах тысяч мужчин и женщин.
Титус и Магдалена взялись за руки. Титус понял, что Магдалена потрясена глубокой правдой картины; она почти с испугом увидела, что Рембрандт запечатлел все самое интимное, что трепетало в ней, рожденное любовью.
Но внезапно художник отодвинул молодых людей в сторону, как будто своим молчаливым созерцанием они что-то отнимают у его творения. Сняв с мольберта сырой холст, он бережно и торжественно понес его к окну, к свету; потом схватил обрученных за руки, подвел к двери и раскрыл ее. Он хочет-де побыть наедине со своей картиной, со своим детищем, с которым ему, конечно, придется скоро расстаться.
Так это повторялось на протяжении более сорока лет. И Титус, который знал об этом, и Магдалена, которая только догадывалась, безропотно позволили выпроводить себя из мастерской, чтобы оставить Рембрандта одного.
Однажды утром, в конце зимы, Титус увел свою суженую из родительского дома и поехал с ней в ратушу.
За две недели до того Аарт де Гельдер и Лукас де Баан оповестили всех знакомых жениха и невесты о предстоящем бракосочетании. Детям они роздали раскрашенные свадебные леденцы, а взрослых напоили церковным вином. Сначала Титус предложил было Яну Сваммердаму быть шафером у невесты, но тот мрачно расхохотался.
— Чтобы я с моей образиной да разбрасывал детям конфетки в бумажках и поил девушек вином? Может быть, мне еще и брачную постель прикажут украшать? Мне-то?
Титус прямо-таки оторопел от грубого и резкого тона Сваммердама, но в глубине души был рад, что сын аптекаря отказался и он мог предложить эту честь двум другим своим приятелям. Де Гельдер и Лукас де Баан больше подходили к роли шаферов. Особенно хорошо Титус понял это в предсвадебные дни, когда молодые шаферы и подружки невесты принялись украшать вечнозеленым барвинком заново обставленную квартиру на Розенграхте. Здесь пошла такая шумная возня, такой стоял хохот, что Титус невольно подумал: что же может натворить на свадьбе этот всегда сдержанный де Гельдер?
А когда Титус с Магдаленой сели, наконец, под свадебный балдахин и торжественная трапеза началась — вот тут-то молодые художники и обе девушки, их помощницы, окончательно сорвались с цепи. Никто никогда еще не видел Аарта де Гельдера таким безудержно веселым. Подпрыгивая на стуле, он пел свадебные песенки, которые заставляли дам делать вид, будто они страшно шокированы, хотя в действительности, прячась за свои веера и бокалы, они хохотали еще громче мужчин. Зато музыканты неизменно играли самые безобидные мелодии. Перекрывая гул человеческих голосов, скрипки визжали, басы рокотали и пронзительные флейты громко дудели то «Король шведский», то «Жил-был некогда младенец», то «Стоит липа в долине» и многие другие такие же песенки.
Корнелия, с ярко разрумянившимися щечками, сидела среди подружек, всячески старавшихся рассмешить ее. Никогда в жизни ей еще не приходилось участвовать в таких торжествах. Легкомысленная болтовня, песни и вино сбили ее с толку. И как могут все эти девушки и женщины хихикать и смеяться, слушая вольные песенки де Гельдера, если она сгорает от стыда? Удивляло ее и то, что Титус, ее добропорядочный и чопорный братец Титус, отзывался смехом на непристойные шутки, которыми мужчины перебрасывались за столом. Корнелия оглянулась вокруг: всюду — одни багровые, хохочущие лица. Время от времени она бросала взгляд в самый конец стола. Там, среди дальней родни и второстепенных гостей, сидел Рембрандт — погруженный в себя, с загадочной улыбкой, приоткрывавшей беззубый рот. Он не пожелал сесть против родителей невесты, где для него приготовлено было высокое, украшенное венком кресло. Его умоляли, настаивали, но так ничего и не могли с ним поделать. Не объяснив, почему он отказывается, он упорно стоял на своем: сидеть он будет там, где ему нравится. Его снова и снова упрашивали, пока он, заикаясь, не начал браниться. Вздохнув, Титус предоставил Рембрандта самому себе. И вот, важный и умиротворенный, зажав в руке большой винный бокал, он сидит в кругу незнакомых ему людей, точно господский слуга или какой-нибудь дальний родственник жениха или невесты, и не отвечает ни на один вопрос, с которым к нему обращаются. Сам он даже, может быть, и не понимал своего положения. Изредка ом взглядывал на почетные места за столом, где под свадебным балдахином восседали Титус и Магдалена; глаза его скользили по стенам, увитым зеленым барвинком и серебристой листвой. Потом он подолгу сидел неподвижно, будто что-то медленно и мучительно вспоминал, пока ему снова не предлагали каких-нибудь яств, на которые он жадно набрасывался, и вина, которое он пил стаканами.
Читать дальше