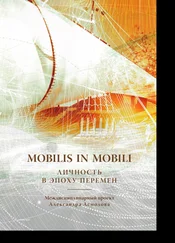Потом отец увлекся секретами растений и научился ими управлять. Но первое ощущение тайны и глубины жизни он получил, когда стоял здесь. Именно в этот момент «оцепенения», изумления жизнью (которая всем кажется понятной и даже надоевшей, пыльной) — именно тут и родился в нем, наверно, ученый, открывающий новое — в привычном. Стал селекционером, переделывал вроде бы самое привычное, устоявшееся, незыблемое (что как-то даже страшно менять) — просо, рожь, кукурузу. Смело, ничего не боясь, сеял привычное в непривычных условиях, соединял несоединимое — и создавал сорта, более результативные, чем прежде.
А я соединяю слова так, как другие не соединяли, и тоже создал свой «сорт», отличный от прочих. Да — без изменений, без риска, похоже, нельзя! Как отец обрадовался, узнав, что я еду в Ташкент, — надеялся теперь моими глазами снова увидеть все, что так страстно запомнил.
Между тем — пока ничего похожего на его воспоминания не было. Вместо стада овец вокруг были стада машин, пахло бензином. Как я найду то место, даже не представляя, где? Уверенность моя понемногу улетучивалась. Если вдруг не найду его места, отец обидится, раскипятится: такой человек — всегда жаждет невозможного!
Я смотрел на сухую желтую землю, мощные глиняные ограды, за которыми шла неизвестная мне, и поэтому столь манящая жизнь. Махалля! — вспомнил я название: такие вот дома, как маленькие крепости, называются — «махалля», и живет там, как правило, один род, довольно большое число родственников, по своим законам. Ни крохотного окошка, ни щелочки нет в этих могучих глиняных стенах, «дувалах» — и, говорят, лучше и не пытаться проникнуть туда.
Проехали железнодорожный вокзал, заполненную пестрой публикой площадь.
Переболев местной дезинтерией, отец энергично влился в здешнюю жизнь (возраст был такой, когда все интересно!), загорел, надел тюбетейку (многие, вспоминал он, принимали его за узбечонка). Сколько, вообще, отец в своей жизни успел — даже завидно. Может, как раз потому, — пришла мне мысль, — что попал он в «эпоху перемен»? И где-то вот здесь, у вокзала, стоял он с ведром воды и кружкой, и вопил:
— Хал-лодный вода! Хал-лодный вода! Миллион — кружка!
Такие были цены… И пассажиры, вываливаясь из душных переполненных поездов, жадно пили воду, платя по миллиону!
Отец говорил, что жили они с сестрами и мамой на «дачном участке», как теперь говорят, мотыгами пробивали канавки, по которым от арыка к арбузам и дыням шла вода, а кроме того, у хозяев был дом в городе, и пару раз они туда заходили.
— Скажите, а где тут Шкапский переулок?! — неожиданно вспомнил я, нарушив то сонное оцепенение, я бы сказал, величие, с которым держались двое, сопровождавших меня. Впился в них взглядом: буквально — вынь да положь! Отец был так же нетерпелив, когда ему вдруг что-то «приспичило», как говорила мама. Ее благоразумие, склонность к общепринятому — и его «горячка», в конце концов и развели их. И мой внезапный вскрик, я заметил, ошеломил спутников. Тут не принято так! Хорошо хоть, что я это почувствовал. Важный, как бы слегка сонный директор (по его виду я сразу понял, что директор — он) даже не шелохнулся. Ниже его достоинства — реагировать на выкрики! Урегулировать мою бестактность взялся администратор. Потом я не раз убеждался, что здесь многое так построено: бай — слуга. Бай, если скажет слово, — потеряет достоинство. Потому мы все так долго, включая водителя, ехали молча.
Администратор одет был не как бай — в обычные джинсы и бобочку, несерьезный наряд человека для мелких поручений, и со мной разбираться должно было ему.
— Шкапский? — сипло произнес он (долго молчали, в горле пересохло). — Да нет, не помню. Да тут столько раз переименовывали! — он махнул рукой.
— А я на какой улице буду жить?
Администратор глянул на шефа — и тот движением бровей что-то ему разрешил.
— На улице Жуковского, — сдержанно сообщил администратор.
— Вы будете жить в Доме Приемов правительства! — вдруг гордо произнес сам директор. Сообщение, видимо, стоило того, чтобы прервать надменное его молчание. Возможности, связи — вот что ценится тут! Я не мог это не оценить — и всплеснул руками. Хозяев тоже надо уважить — и реакцию мою они оценили. Молчание в машине стало дружелюбней.
— Салман Ахмедович сказал, что нам надо заехать на рынок! — где-то через четверть часа, почтительно глянув на директора, сказал наш слуга…
Когда это Салман Ахмедович сказал? Что-то не слышал. Но я — тоже важная шишка. Суета, неуверенность, переспросы — это не про нас. Сказал — значит, сказал… Может, они, как более древняя цивилизация, давно уже научились разговаривать молча?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


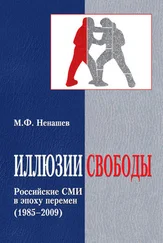


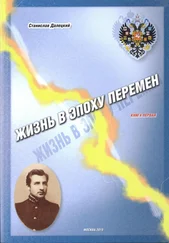
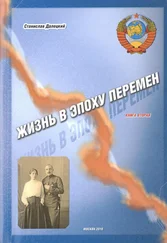

![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)
![Валерий Попов - Жизнь удалась [Повесть и рассказы]](/books/414389/valerij-popov-zhizn-udalas-povest-i-rasskazy-thumb.webp)