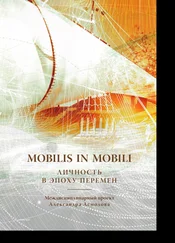К счастью, мама, Дарья Степановна, мать семейства, женщина твердая и самостоятельная, спасла семью. Иван Андреевич надвигающуюся коллективизацию не поддерживал — эсеры, как бы крестьянские заступники, уже были с большевиками «на ножах». Похоже, ничего хорошего ждать не приходилось, и Дарья Степановна, не слушая его, собрала младших, включая моего отца, и отвезла их к своему родственнику, под Ташкент. Тут уже пригодились возможности другой семьи — Хромкиных, откуда Дарья Степановна была родом. А многие из оставшихся умерли от голода — особенно много поумирало детей.
…Последние свои годы бабушка Дарья провела у своей самой младшей дочки Нины, которая получила высшее образование, как и все ее сестры и братья (кроме самой старшей, Анастасии, которой досталась более тяжкая доля). А Нина (пожалуй, самая красивая из всей семьи, хотя красивы, по-южному, были все) стала главным врачом санатория в Черемшанах, на Волге.
Отец ездил туда, в гости к Нине, уже будучи средних лет, уже не кудрявым, а лысым. Бабушка Дарья, уже почти совсем обездвиженная, но по-прежнему властная, командуя всеми, лежала дома у тети Нины, а та, имея широкий доступ к лекарствам, поддерживала жизнь в Дарье Степановне. Однажды отец, приехав туда, решил зайти в местную парикмахерскую — и войдя туда и сев в кресло перед зеркалом, вдруг увидел, что все застыли в каком-то изумлении.
— Со мной что-то не то? — поинтересовался он.
— То! Самое то! — воскликнула самая старшая парикмахерша. — Если вот вам сейчас повязать платок — не отличить будет от Дарьи Степановны!
Думаю, что если сейчас и мне повязать платок — и меня тоже будет не отличить. Хромкинская порода. Но никого бы из нас на свете не было — если бы не Дарья Степановна и Ташкент!
Глава пятая. Ташкент (1922–1923, 2001)
Я вышел на трап самолета — и сразу почувствовал: Ташкент! Садясь в машину, я заслонился ладонью — такого яркого жаркого солнца, да еще в октябре, я не ожидал.
— Как тут у вас! — восхищенно произнес я.
Встречающие гордо усмехнулись, но ничего не ответили.
Не отрываясь, смотрел я в окно: где-то здесь в двадцатые годы отец мой спасался от голода, приехав сюда с сестрами и матерью к двоюродному ее брату, и вспоминал он Ташкент с восторгом — сказочный город после голодной деревни! И я почему-то сразу почувствовал себя здесь своим и даже счастливым. Наш род южный, степной — и я всегда испытывал счастье, приезжая на юг, и подъезжая к нему — выходил ночью на площадку, открывал на ходу вагонную дверь (тогда это еще было можно) и, зажмурившись, наслаждался горячим ветром, налетавшим рывками, гладившим лицо, треплющим волосы… Первый пирамидальный тополь, скрученный, как знамя, вонзавший в звездное небо тонкую темную пику, дарил счастье.
И здесь стояли они, такие же, туго закрученные, и даже при таком солнце — темные внутри. Отец говорил, что они жили в небольшом домике среди яблонь, слив, абрикосов. Ташкент не только спас их, но и наполнил жизнь незабываемыми воспоминаниями. Даже события тяжелые — теперь уже, через столько лет, казались отцу трогательными…
Однажды, рассказывал он, они все заболели дезинтерией — мой будущий отец и его старшие сестры Настя и Таня. Лежали в комнате, распластанные на матрасах. Было жарко, их тошнило. Окна в сад были распахнуты. А младшая их сестра Нина, веселая и кудрявая, которую болезнь почему-то не брала, сидела у окна на абрикосовом дереве, один за другим ела мягкие желто-красные абрикосы и, смеясь, пуляла в комнату косточки. Отец вспоминал, что они тоже пытались отстреливаться, но косточки из их ослабевших рук не долетали даже до подоконника…
Провожая меня сейчас, он почему-то был уверен, что я найду это место. Горячая его убежденность — отметающая всякие мелкие проблемы, например, незнание точного адреса, передалась и мне. И я был уверен, что найду. Тем более — прилетев сюда! Я так увлеченно глядел в окно, что вроде забыл, с кем и куда я еду. Чуть опомнясь, я улыбнулся людям в салоне и снова повернулся к окну.
Отец вспоминал, как по дороге вдоль арыка (может, как раз по этой, где сейчас ехали мы) гнали овец — тесной, мохнатой, едко пахнущей отарой, которая, как он говорил, не прерывалась несколько суток. Блеянье, глухой дробный топот… иногда поднималась, красуясь завитыми рогами, голова барана, пытавшегося на ходу заскочить на овцу, но сзади напирали другие, и ему приходилось, досадливо мемекнув, скрыться в общей серой массе. Изредка — лишь раз в день — вдоль бесконечного стада овец проносился всадник, в чалме и халате, ни во что при этом не вмешиваясь — овцы шли сами по себе. Отец, еще мальчик, был заворожен этим шествием. Его детский, но уже тогда аналитический, ум находил нечто поразительное в том, что другим казалось привычно-унылым. Поражало его, как двигалась колонна, с одной и той же шириной и скоростью — притом никто колонной не управлял, как она была запущена, так и шла, не сбиваясь и держа скорость и строй. Где же находится то, что управляет колонной и держит ее на протяжении многих десятков, а может, и сотен километров, в порядке? Какие-то таинственные силы управляют миром!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


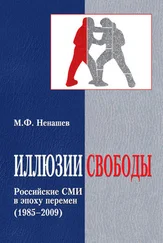


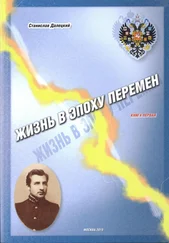
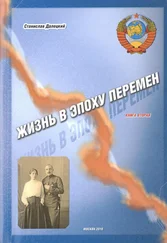

![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)
![Валерий Попов - Жизнь удалась [Повесть и рассказы]](/books/414389/valerij-popov-zhizn-udalas-povest-i-rasskazy-thumb.webp)