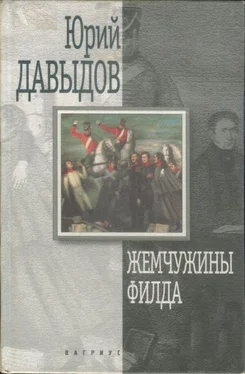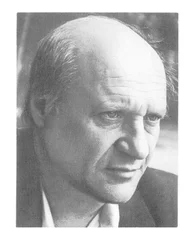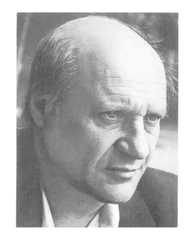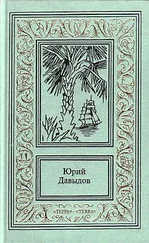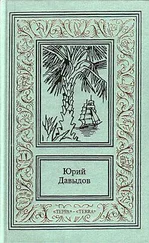По мере возлияния Троянский омрачился. Вздохнув, молвил громко: «Затоскует Евдокимушка, затоскует…» Сотрапезники не поперхнулись, но жевать стали медленнее. Пономарь объяснил: «В раю луга заливные, дивные в раю луга, а глянешь окрест — ни единой вятки-лошадушки. Затоскует Евдокимушка, всенепременно затоскует…»
Поминальники переглянулись. Но кто-то разумно предположил, что в раю не пашут, извозом не промышляют, стало быть, и не скорбят о животине. Вдова Матрена Гавриловна испустила тоненькое: «Их! Их!» То ли закручинилась по безлошадному Евдокиму, то ли согласилась с логическим умозаключением. Вероятно, последнее, потому что к зелену вину добавила браги. Вообще-то аржаная брага законное достояние пермяков, ан и вятские, уверяю вас, варят не плоше. Халтура продолжилась. Иные, слабея, впадали в созерцательность, а иные как бы в изумление.
Пономарь же Феодор Троянский стремил мутнеющий взор к литографии, подаренной некогда г-ном Монферраном солдату Кондратьеву. И что же? На Сенатской площади Жеребец императора, увеличиваясь в размерах, ронял конские яблоки величиной с пушечное ядро. Дымясь в спертом воздухе горницы, они катились на пономаря Феодора, разламывались пополам и являли черта, но не болотного, тот в ряске и склизкий, нет, сухопарого, голенастого, с тростью. Чертей было все больше. Голова Троянского тупо стукнулась о столешницу, и это не было положением риз, а было озарение доктриной, суть которой…
Внимайте! Посреди града Святого Петра корячится Жеребец, производитель чужеземцев. Сей Жеребец, есмь конь троянский, обманный, языческий, отчего и произойдет всероссийское душегубство, люд же православный нисколько в том не повинен, в том числе и он, Феодор Троянский.
Такое вот откровение посетило пономаря на поминках. Краткий курс его историософии погрузился на илистое дно провинциального архива, чем, вероятно, и объясняется отсутствие ссылок на приоритет сельского звонаря в современной публицистике.
Вот и все, я умываю руки. Тем паче что не только на поминках случаются странные сказки. Судите сами.
Вскоре после поминок вятское губернское правление возвратило паспорт Евдокима Кондратьева к месту его службы — в Комиссию о построении Исаакиевского собора. Формальность? Нет, фатальность, ибо там, где паспорт, там и человек, ему принадлежащий.
Итак, солдат Кондратьев караулил склады на Сенатской площади, нимало не помышляя о доктрине Феодора Троянского.
Плох солдат без солдатки. Не той, что кукует в деревне, а той, что ни вдова, ни мужняя жена и от него на короткой дистанции.
Свою касатку углядел Евдоха на плоту, где прачки белье мыли. Шагая поутру к дому г-на Монферрана, шестеро пехотинцев, Кондратьев тоже, пялились с набережной Мойки на любострастное положение, в каком бабы белье полощут.
Однажды старшой, балагур эдакий, возьми и спроси: «А что, ребяты, можете опознать, где блядь, а где честная?» Воины на ходу в тупик встали. Старшой сложил ладони рупором: «Эй-й! Бог в помощь и честным, и блядям!» Вышел разнобой. Одни скромно поклонились: спасибо на добром слове. Другие замахали скалками: «Чего лаешься, пес?»
Евдоха Кондратьев упустил из виду, каким манером отозвалась Нюра. И не упустил Нюру, месяц ясный. Пусть будет стыдно тому, кто подумает о них скверно.
Сворачивай с набережной в Прачечный переулок, заходи со двора. Сад большой, траву скосили, хорошо. Во дворе флигель с башенкой; в угловой светелке — Нюра, носик чижиком, хорошо. В глубине двора двухэтажный дом, фасадом на Мойку.
Когда-то, в Париже, мсье Монферран прозябал. Здесь, в Петербурге, поначалу нанимал закут при швальне; хозяин-портной с похмелья бранил его швалью. Теперь маэстро, обласканный государем, был знаменит. Играя ямочками на тугих щеках, называл свою недвижимость «хижиной» или «жилищем каменщика». А петербуржцы причмокивали: второй Эрмитаж.
Царила в чертогах гармония. Однако взыскательных художников снедает жажда еще большего совершенства.
Г-н Монферран замыслил в чертогах генеральную передислокацию. Авангарду ломовая работа невподым; подавай рядовых арьергарда. Г-н Монферран просил командировать гарнизонных нижних чинов. Вот они тут поясницу разминали да ноги разматывали.
Бронзовый Юлий Цезарь как пушка-единорог. Мраморный Генрих Четвертый не легче. Помилуй Бог обронить «Триумф Карла Пятого». А постель-то, постелище! Вагой не вздымешь. Ширина — взвод выспится; балдахин-шатер цыганский табор осенит. Тяжеленная, черного дерева. То было супружеское ложе Людовика и Антуанетты, казненных на эшафоте. Образованному человеку помстились бы в складках балдахина блики гильотины. Евдоха же Кондратьев со товарищи, не ведая о злодействах французской революции, волокли альковное чудище из одного покоя в другой, пуская от натуги злого духа в штаны.
Читать дальше