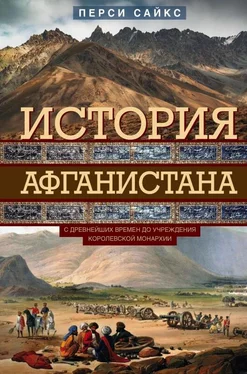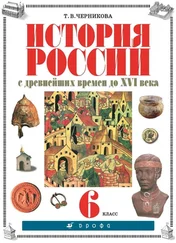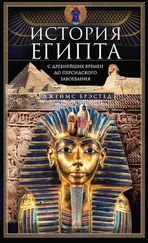Развитие персидского языка
Персидский язык – фарси, язык провинции Фарс, на котором говорят в наши дни в Афганистане и Персии, – это прямой потомок языка, на котором говорил Дарий – великий монарх династии Ахеменидов. Свержение этой могущественной династии Александром Македонским и последующий приход к власти парфянской династии нарушили преемственность языка на пять с половиной веков (330 до н. э. – 226 н. э.). Затем парфянскую династию сменила национальная династия Сасанидов, при которой литература носила главным образом богословский характер. Эта великая династия в конце концов ослабла и была свергнута арабами в сражении при Кадисии в 637 г. н. э. Завоеванную Персию затем, безусловно, пропитали в равной степени и арабская религия, и арабская культура, и, хотя этот период, в конечном счете, закончился не раньше 1258 г., когда халифату положил конец Хулагу-хан, персы постепенно оттеснили арабов от власти при династии Аббасидов. И в последней главе мы читаем, что Мамун заложил основы великолепной культуры среди жителей иранского происхождения в Центральной Азии. Таким образом, современный персидский язык можно считать тем же самым персидским языком, каким он стал после Арабского завоевания. С той поры в нем появилось так мало изменений, что самые первые записанные стихи могут легко понять в наши дни и образованный иранец, и образованный афганец, как и произведения Шекспира могут понять современные англичане.
Рождение персидской литературы
Рождением персидской литературы, какой мы ее знаем, считается период, когда у власти была династия Саффаридов. На самом деле самым первым известным поэтом был Рудаки, который процветал при Насре II – монархе из династии Саманидов, правившем в Центральной Азии с 914 по 943 г. Самое известное стихотворение Рудаки – это его импровизация, сочиненная по просьбе придворных, с целью убедить Насра вернуться из Герата в Бухару. Вот оно:
Ручей Мулийан на память все приходит, и мы стремимся к дорогим друзьям, оставленным давно.
Песок [реки] Окс, хоть и труден путь, шелком под ноги мне стелется.
Радуясь возвращению друга, глубокая Окс нам до подпруг веселую волну вздымает.
О Бухара, приветствую тебя: радостный эмир наш спешит к тебе!
[Ведь] он – луна, а Бухара – небесный свод: луне всегда сиять на небосводе!
Он – кипарис, а Бухара – луг: прими, о луг, свой кипарис.
Говорят, что Наср был настолько растроган этим прекрасным стихотворением, что сошел с трона, вскочил на коня, стоявшего на посту часового, и поскакал в Бухару в такой спешке, что даже не остановился, чтобы надеть сапоги для верховой езды.
Абу Али ибн-Сина, Авиценна
Великий ученый родился неподалеку от Бухары в 980 г. и в семнадцать лет снискал расположение Саманида – принца Нуха II, излечив его от болезни. Благодаря этому он получил доступ к библиотеке принца, в которой, по воспоминаниям самого Абу Али, было «много книг, сами заглавия которых были неизвестны для многих людей, а другие книги мне никогда не встречались ни ранее, ни после».
Благодаря своему таланту Авиценна, который сам был учеником Аристотеля, быстро обрел энциклопедические знания, которые дали ему возможность систематизировать все знания своего поколения. Он известен в равной степени и как великий философ, и как великий врачеватель, «Канон врачебной науки» которого сохранял свое влияние в далекой Европе до XVII в. Достопочтенный Беда – английский монах, который, безусловно, знал греческий язык и, возможно, немножко иврит, а научные, исторические и богословские труды которого суммируют все знания VII и начала VIII в., наверное, занимал в Европе положение, сходное с тем, которое занимал Авиценна в Азии.
Авиценна был еще и поэтом, и я приведу одно из его четверостиший, которое по ошибке приписывалось Омару Хайяму. Вот оно:
Велик от Земли до Сатурна предел,
Невежество в нем я осилить хотел.
Я тайн разгадал в этом мире немало,
А смерти загадку – увы! – не сумел.
Фирдоуси
Величайшим из поэтов, которые толпились при дворе Махмуда Газневи, был Абул-Касим, прославившийся в веках как Фирдоуси. Он был мелким землевладельцем в деревне Баж, в 12 милях к северу от города Мешхеда – нынешней столицы провинции Хорасан. После того как Фирдоуси стал придворным поэтом Махмуда Газневи, монарх доверил ему выполнение важного задания – написать эпическую поэму «Шахнаме», пользуясь всецело доисламскими источниками; ему была обещана плата в размере одного золотого динара за каждое рифмованное двустишие. В 999 г., завершив свое бессмертное творение после двадцати пяти лет работы, Фирдоуси приехал из Туса, чтобы представить его Махмуду. К несчастью, поэта обвинили в ереси, и из-за интриг его врагов вместо обещанной суммы золотом, составлявшей приблизительно 25 тысяч дунтов, он получил лишь сумму, соответствовшую 400 фунтам серебром. Фирдоуси, в ту пору уже восьмидесятилетний старик, был горько разочарован. Он пошел в баню и, дав волю своим чувствам, разделил серебро между банщиком и продавцом щербета. Затем он написал язвительную сатиру на Махмуда – она дошла до нас – и бежал от мести разгневанного султана.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу