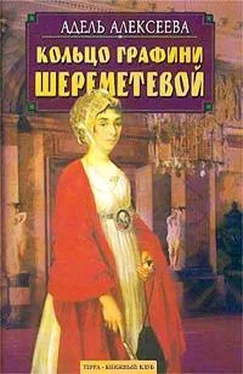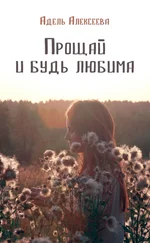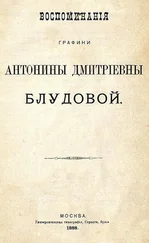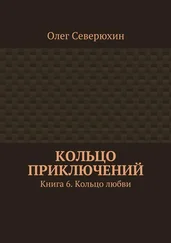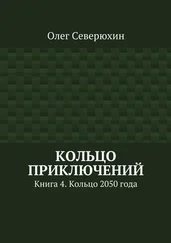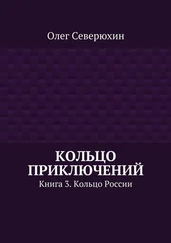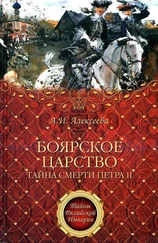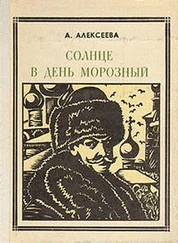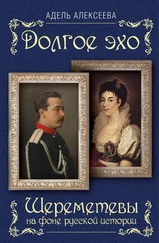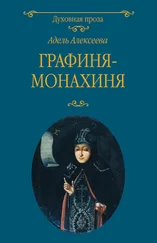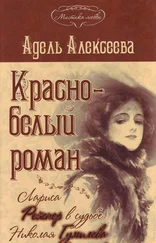Одна из Шереметевых — Анна Сергеевна рассказывала, что путём напряжения духовных сил она создавала облик своих детей: «Когда я была в ожидании своего старшего сына, умершего в возрасте 4 лет, я в первый раз прочитала «Бедные люди» Достоевского и находилась под глубоким впечатлением этой повести. Родившийся ребёнок был олицетворением милосердия: он раздавал всё. Перед тем как родиться Борису, я часто смотрела на море, и это отразилось в его глазах и на его характере». (Т. А. Аксакова-Сиверс утверждает, что ни у кого не видела таких бездонных, «морских» глаз, как у Бориса). Склонная к мистицизму, утончённо обаятельная, Анна Сергеевна ощущала в себе свойства древних Сибилл, вплоть до ясновидения, она представляла собой полную противоположность понятиям «простота», «примитивность», была из тех женщин, ради которых «лилось много крови и пелось много песен».
Но — увы! — «глаза с поволокой» не смягчили тех, кто расправлялся с сыном Анны Шереметевой в 20-е годы. Оба её сына (как и муж, как десятки родственников) погибли в 30-е годы, в период, перед которым бледнеет Смута, когда сломан костяк русского народа.
Россия — страна медленная, даже замедленная, и тут ничего не может происходить скоро. Но этого никогда не могли понять разного рода «торопыги» и экстремисты, спеша подогнать народ и время. Кончалось это всегда бедами.
В ней, России, как в природе, происходят некие общие явления — взлёты и падения, вспышки болезней, эпидемии, когда микробы захватывают тысячи и миллионы людей. Здесь история как бы развивается волнами, и после девятого вала наступает спад, отрезвление и... расплата. Помню, пришлось слышать рассказ старого композитора Юдина, который, увидав в 1912 году на Витебском вокзале Николая II, охвачен был лишь одним желанием — немедленно его убить, а было ему всего 12 лет! — но вредоносный микроб уже поразил.
Если Пётр I был девятым валом, то смерть его жены, детей, внуков, дворцовая чехарда — не было ли это расплатой? В такие времена расцветают ябедники, доносы, творятся измены, предательства. Подобное время выпало на Долгоруких...
То, что лишь зарождалось в «кустарные», «допотопные» времена XVIII века, расцвело в веке XX. Если тогда за ложные доносы расплачивались чуть ли не жизнью, то теперь они вошли в повседневный обиход. Если тогда смельчак мог просто отколотить обидчика, дав волю горячности, то теперь родовая гордость была задавлена, уступив место терпению и приспособленчеству. Тысячи дворян в 20-е годы покинули столицы, их запрятали в отдалённые края.
Как относиться к потрясениям: бежать? приспосабливаться? самому участвовать в «новой жизни»? Нравственная сила и обаяние Шереметевых в том и состоят, что почти никто из них не покинул родину, они считали своим долгом что-то ещё сделать для сохранения культуры, истории.
Неудивительно, что, попав в заключение, многие из них вспоминали Ивана Долгорукого и жену его, с каким мужеством переносили они свои беды. А писатель Варлам Шаламов написал рассказ «Воскрешение лиственницы», посвятив его Н. Б. Долгорукой, и закончил его такими строками: «Лиственница эта живёт где-то на севере, чтобы кричать, что ничто не изменилось в России — ни суд, ни человеческая злоба, ни равнодушие...»
А какой болью пронизаны строки одной из ссыльных, когда в глуши, в снегах услыхала она по радио в исполнении Обуховой романс Б. Шереметева «Я вас любил»!
В тех же отдалённых краях, что Долгорукая, что Шаламов, провёл несколько лет Николай Николаевич Бобринский (потомок Екатерины II и графа Орлова). В нём не угасла ещё горячность: когда его оскорбили, этот силач ударил обидчика с такой силой, что тот упал замертво...
Не угас темперамент и в Долгоруких, не истаяла их любовь к родине. Оба они эмигрировали за границу, но не смогли вынести тоски по родине. Л. Медведникова в «Итальянском дневнике» передаёт рассказ В. В. Шульгина о том, как, охваченные ностальгией, два брата Долгоруких вернулись в Россию и как их выдворили обратно. Но и это их не остановило, через несколько дней они снова перешли границу — и что же? «Одного (рассказывает Шульгин) потом расстреляли, а другой сидел со мной во Владимирской тюрьме. Когда открывали памятник Юрию Долгорукому, на открытие его выпускали... А потом снова в камеру. Там он и умер. Зато на родине...»
XX век принёс то, чего не могло быть раньше: количество перешло в качество, и расстреливать стали по спискам, по разнарядке. Это вошло в систему. 2 июля 1937 года большевистское политбюро в своём решении записало: «Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей, являются зачинщиками всякого рода антисоветских выступлений... В 3-х дневный срок представить состав троек и количество подлежащих расстрелу и высылке... По Западно-Сибирскому краю утвердить 6600 кулаков и 4200 уголовников...»
Читать дальше