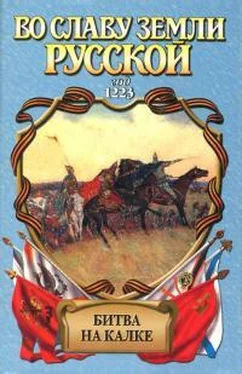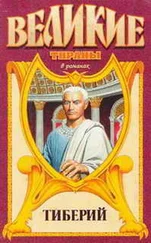Тем временем выбрались из города, миновав и стражу, и вообще никого по дороге не встретив. Дальше остановились в лесу. Луна светила. Плоскиня долго лазал по сугробам, потом подозвал Ивана. В снегу лежали три железные полосы, заготовки для кузнечного дела, тяжеленные, из тех, что немцы в Новгород привозят и продают.
Вот странно, подумал тогда Иван. Такое железо ведь всё считанное, его по договору староста от кузнецкого общества берёт на корню, а после меж кузнецами делит по справедливости. Демьян в своё время получал побольше многих. А несчитанное железо, считай, ворованное; если узнает староста, что какой кузнец из него свой товар делает, то может общество и кузню отобрать, и даже в подручные его больше никто не возьмёт. С этим строго. Но если по-умному, так поди дознайся! Железо оно и есть железо. И всё же Иван точно знал, что отец его никогда такими вещами не баловался. Честь берег.
Кое-как погрузили эти полосы в сани. Ивану и неловко было, что в таком нехорошем деле участвует, да в тёмном лесу вдруг боязно показалось Плоскине перечить. Одним словом, повезли в город. Если что, сказал Плоскиня, если нас с тобой окликнут али стражу увидишь — с саней прыгай да беги прячься. И я тоже побегу. А если без помех товар доставим, то от человека того много получим, сколько тебе в твоей кузне и в месяц не заработать! Жутко было Ивану тогда, в санях с ворованным железом, смотреть, как скалится напарник и зубы его белеют в лунном свете.
Обошлось. И в город въехали незамеченными, и к дому того человека добрались скоро. Этот человек и оказался Малафеем. Сани разгружать помогали его работники. Расплатился хозяин с Плоскиней щедро, хотя и много меньше той цены дал, что стоило бы железо, будь оно не краденым.
Назавтра, едва рассвело, Иван побежал на Торг, купил, почти не разглядывая, сапожки сёстрам. Прибежал домой, не успел как следует порадоваться девчоночьему счастью, как сосед Плоскиня явился — вчерашний напарник по лихому воровскому делу. И стал зазывать в гости к тому самому Малафею, которому железо продали. Угостит, мол, на радостях, что так дёшево товар достал! И тут бы Ивану вспомнить свой стыд да и отказаться — ан нет. Видно, глядя на то, как мать с сёстрами рады, почувствовал себя таким уже взрослым, кормильцем-добытчиком, что сказал себе: «А что? Я уж взрослый, сам себе голова, где хочу, там и гуляю!» И пошёл.
У Малафея Иван выпил бражки и с непривычки захмелел. А дальше — всё как в тумане. Вышел на двор, облегчиться. Пока облегчался, заметил, что Плоскиня с одним из Малафеевых работников вроде как драку затеяли за кузней. И стало Ивану обидно: как это такое, что же это моего друга тут обижают? Даже упал в грязь от огорчения. Полежал, пока холод не начал пронимать. Встал, пошёл за кузню. А там уж никакой драки нет, а лежит один работник, тот самый Вешняк. Иван — к нему. А тот убитый. И ножик в нём торчит, в груди, там, где сердце. Вытащил Иван ножик, кровью испачкался. А так ничего и не понимает: что такое, почему ножик? Тут прибежали. Схватили. Крик, шум. Иван хватился было Плоскини, а того нет нигде. Дальше дело известное — к тысяцкому в подвал и под замок. От холода и страха Иван протрезвел, а когда протрезвел, решил, что Плоскиню ему лучше не упоминать, когда допрашивать станут. Дознаются про то краденое железо — отнимут кузню. Прощай тогда надежда на лучшую жизнь! Вот так и попал в закупы к Малафею. Могли и хуже наказать, за убийство-то. Помогло, что Иван был человек вольный да сын уважаемого отца, голову свою за Новгород положившего. Ну и, конечно, то, что убитый Вешняк оказался из чухны, взят был когда-то в полон да и куплен Малафеем.
После той зимы весна пришла сухая, и много в городе пожаров было. Их Прусский конец почти весь сгорел, а в нём сгорела и кузня отцовская, и дом родной, и мать с обеими сестрёнками. Как Иван тогда умом не тронулся — до сих пор не понимал. Отлежался в беспамятстве у Малафея, да после помаленьку снова за работу принялся. Несмотря на его горе, хозяин долга Ивану простить не захотел. А если рассудить, так зачем свобода? Идти-то некуда.
Иван лежал, засыпая постепенно, чувствуя, как слёзы текут по лицу. От воспоминаний даже есть больше не хотелось. Он вдруг подумал, что плачет о своих близких без прежней горечи. Может быть, оттого, что горе притупилось, а может, потому, что сам вроде как помер или уже причислил себя к мёртвым. Хотя ещё двигался и дышал. Сон пришёл как всегда незаметно, и он больше ни о чём не думал в ту ночь.
Читать дальше