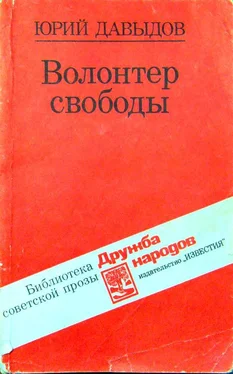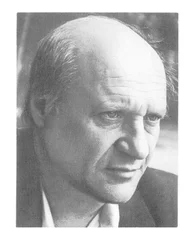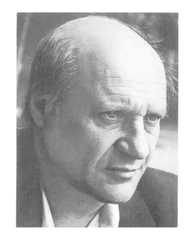Но в июльский день 1826 года капитан-лейтенант в мундире и при орденах был на шканцах и командовал так же, как раньше, — спокойно и отчетливо. В тот день фрегат пришел на Большой Кронштадтский рейд.
На рейде было тесновато: недавно вернулись из практического плавания корабли Балтийской эскадры, на "Князе Владимире" вился флаг адмирала Кроуна. В порту снаряжались в кругосветное шлюп "Сенявин" Федора Литке и шлюп "Моллер" Михаилы Станюковича, Хлебные баржи валко тянулись в Купеческую гавань. Тройка нарядных катеров под дружные песни матросов спешила в Петергоф, а ближе к Ораниенбауму вальсировали яхты во главе с командором Российского яхт-клуба князем Лобановым-Ростовским.
А Кронштадт веселился, как всегда, когда возвращалась эскадра. В Летнем саду с листвою, уже загустевшей по-июльски, военный оркестр, сыграв на утеху седым флагманам старинный полонез Козловского, исполнял любимые молодежные экосезы и польки.
Из распахнутых окон слышались смех, говор, гитарные переборы, звон стаканов. За высоким забором, крашенным охрой, сочный басок, безбожно фальшивя, выводил алябьевскую "Лунную ночь". Катились коляски, где-то бил барабан, кто-то пьяно целовался с приятелем, старые боцмана салютовали у ворот люльками, а в Морском собрании хлопали пробки.
До окончания расчетов с адмиралтейскими ревизорами Коцебу, которому до смерти не хотелось оставаться на корабле, поселился в Английском трактире, в том самом, где больше десяти лет назад отмечал последний береговой день с лейтенантом Шишмаревым, художником Хорисом и доктором Эшшольцем.
Хозяин трактира Томас, раздувшийся бочкой, почтительно встретил капитан-лейтенанта и отвел ему комнату наверху. "Лучшая из лучших, сэр!" — заверил Томас, убирая с дороги свое брюхо.
Поднимаясь по лестнице с резными дубовыми перильцами во второй этаж, Коцебу едва не столкнулся с контр-адмиралом.
— Ба! — воскликнул тот. — Здравствуй, душа моя!
— Иван Федорович! Простите, не узнал…
— Ну-ка, ну-ка, покажись! Дай-ка облобызаю.
Крузенштерн приехал из Петербурга, приехал проводить в дальнее плавание сына Павлушу, юнкера гвардейского экипажа.
— На "Сенявине" идет, — не без гордости говорил Крузенштерн. — Вот тоже, как тебя когда-то, спускаю корабль на воду, сдаю богу на руки.
— Не смею задерживать, Иван Федорович.
— Помилуй, душа моя! Твоя комната? Ну и хорошо! Юлия Антоновна тоже здесь, к Моллерше убежала. Сороки! Ну подождет, подождет.
В комнате, большой и просторной, было солнечно, но не жарко. Они сели в кресла.
— Вот и я в России, Иван Федорович. И светло на душе и грустно.
— А, понимаю, понимаю, брат, — проговорил Крузенштерн, внимательно взглянув на своего бывшего воспитанника. — Осиротели мы, Отто.
Слуга принес вина, закуску.
— Помянем графа Николай Петровича.
— Помянем, Иван Федорович.
Они помолчали.
— Теперь, верно, заглохнет?
Крузенштерн угадал его надежду.
— Заглохнет? — Адмирал подумал и решительно тряхнул головой. — Скажу уж тебе разом: заглохнет. А ты как полагаешь? Там, — он ткнул пальцем в потолок, разумея высшие сферы, — там, брат, экспедицию к Северо-Западному проходу излишней считают. А директора компании без румянцевских денег не шевельнутся… Давай-ка еще по одной, и довольно, не то будет мне от Юлии Антоновны.
Коцебу налил рюмки.
— Неудачник я, Иван Федорович, всю жизнь стремиться и вот…
Он не договорил, губы у него дрогнули.
— Неудачник? Крузенштерн нахмурился. — Это ты-то неудачник? Зря, ей-богу, зря! Да, да… Изволь слушать! Тебе, Отто Евстафьевич, великое счастье дано было. И не спорь, не спорь! Великое счастье, сударь! Вот будешь в Петербурге, презентую первый том моего "Атласа Южного моря", и потрудись, пожалуйста, посчитать, сколь открытий свершил. Молчи! Пусть-ка кто больше твоего из морей привезет. Что? Север? М-да… Север. А знаешь ли… Ну-ка, выпьем, я тебе скажу…
И, выпив, оперся ладонями о стол, наклонился:
— Как говорится, сударь, у каждого свой крест. Не так ли? И у тебя тоже. Понимаешь? Южный. Южный Крест твой. Под сим Крестом знатно и славно потрудился. Вот. А ты "неуда-ачник"!
* * *
Умирал он в феврале.
После плавания на фрегате еще несколько лет продолжалась служба. Продолжалась как с разбегу. Но то уж была служба, а не служение. Строевые должности не пришлись по душе. Учения и смотры в Маркизовой луже, как в насмешку над бывшим министром Траверсе звали Финский залив, могли удовлетворить искателя чинов. А он был искателем бурь. Бури не гремели на проспектах Петербурга; желанный крик: "Вижу берег!" не раздавался на Кронштадтском плацу; и не отблеском тропических гроз освещались тусклые кровли Ревеля. В Адмиралтействе же отвечали сухо: "Здоровье, господин капитан второго ранга, препятствует отправлению вашему в продолжительный вояж".
Читать дальше