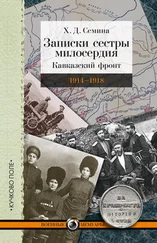Николай Шадрин
СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
(Повенчанные на печаль)
(Последний парад Колчака)
Я девчонка еще молодая,
а душе моей тысяча лет.
Стрекот и пыль столбом! Шили рубашки, кальсоны, постельное белье…
Это случилось неприметно, исподволь. Всю жизнь, с детства, была бойкой шалуньей, «звездой»! Одно только и занимало мысли и сердце — успех! Восхищение публики. Но вот бедовая душа налетела на неожиданную встречу, как коса на камень, — и переломилась.
…Они стояли с мужем на вокзале, мимо, отдав честь, прошел капитан. И будто что ударило, взорвалось и переполнило жаром.
Я только вздрогнула: этот может меня приручить.
А он и не взглянул. Даже хуже, взглянул, как на никому не нужную этажерку. И прошел мимо. И унес навек ее сердце. Это был он. «Моторный двигатель прогресса», возрождающий погубленный флот. Анна слишком привыкла к восхищенным взглядам мужчин и давно уж принимала их как должное. А этот не заметил. Внимания не обратил. То есть началось все элементарно, с уязвленного самолюбия. «Ну, погоди, дорогой!» — наверное, прищурилась она тогда вслед широкоплечему капитану…
— Анна Васильевна! — сдерживая раздражение, крикнула хозяйка артели. Это значило, что госпожа Тимирева могла бы чем-то заняться, не стоять столбом среди цеха.
Поспешила к электрическому «Вильсону», строчить бесконечные мили швов по опушке белых полей простыни.
Палец дергало так, что пронзало насквозь.
— Больно, Анна Васильевна? — наклонилась Алиса Кызласова.
— Ничего-ничего! Пройдет. Рожать больнее!
Княжна сощурила свои красивые татарские глаза, покачала головой. Анна нашла силы, улыбнуться:
— Барин приходит в Славянский Базар, заказал огненный суп. Лакей несет ему тарелку — а пальцем в суп заехал. Вот так, — показала — Барин, конечно, возмутился! — Ты что же это вытворяешь, скотина?! — А тот ему: «Палец, ваше сиятельство, болит, спасу нет!» «Так засунь его себе в задницу!» «Совал, ваше сиятельство, не помогает!».
В лицо бил южный, с брызгами дождя, холодный ветер. Шумели тополя, ветер трепал ярко позеленевшие листья. А под ногами золотыми рублями — желтый лист. По лужам пробегает рябь — и как-то зябко от этой осенней картины. А ноги норовят свернуть в сторону, только бы не к старикам-чалдонам.
То есть Анна понимала, что не может же Верховный, будучи официально женат, жить у всех на виду с неразведенной женой боевого товарища. А в душе закипала обида и негодование пуще, чем у Анны Карениной. Как так получилось, что залезла в этот мучительный, постыдный капкан?!
Палец ныл, так и тянуло сунуть, подержать в холодной луже. Как-то все не так складывалось в жизни! Наклонилась, стараясь рассмотреть себя в отражении неспокойной воды: не состарилась ли? Кому теперь нужна такая? С опухшим пальцем.
Мимо, с лошадиным храпом и смачным топотом копыт, проскакали казаки. С красными лампасами. Донцы. С родного юга! За порядком следят. И отлегло от сердца, и походка вернулась прежняя легкая. А милый… что ж! Еще бабуся говорила: «У них одно на уме, как бы нашу сестру до беды довести — да скорей на коня». И вздрогнула! На чахлом топольке мокрая с распущенными крыльями ворона. Открыла клюв, будто подавилась: кар-р, кар-р! Автомобилистка. «Car» ей подавай.
Казаки на перекрестке. Смотрят. Вообще-то они не только следили за порядком — а и сами творили черт знает что. Пытливый, неподвижный их взгляд смущал, и уж хотелось свернуть в подворотню. Но шагала все так же твердо, решительно. И когда поняла неизбежность насилия, вдруг проорала степным зычным голосом:
— Здорово, станичники! — Казаки дрогнули и подтянулись. — Благодарю за службу! Вольно!
Казаки распустили бороды улыбкой.
— Рады стараться, — отозвался старший снисходительно и коротким движением пустил лошадь на рысь. Скоро стук копыт истончался и смолк. Все-таки опасно ходить этим узким разбойничьим переулком. Особенно вечером. ОМСК — «отдаленное место ссыльных каторжников». Только и осталось надежды — на авось, небось да как-нибудь.
Старик бухал под крышкой своим колуном.
— Скоро он?!
Анна потрясла головой. Старушка приготовила грибы, достала горбушку хлеба, отрезала три больших куска. Над третьим, правда, слегка задумалась. И отрезала потоньше. Кот Шамиль беззвучной белой тенью вился у ног. Голоса не подавал, терпел.
— И что бухает? Дня не будет, что ли?
Читать дальше