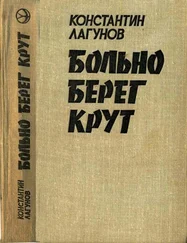Пашка обвил длинными пальцами шейку топорища, размахнулся и с натужным кхаком всадил лезвие по самый обушок в столешницу. Та, хрустнув, развалилась на куски. Пашка развернулся и с маху припечатал обух к настенному зеркалу. Белыми искрами брызнули осколки.
— Круши! Все! К такой матери! Под корень!
Они рубили, рвали, топтали все, что попадало на глаза и под руки. Пашка орудовал топором, как на сече, кроша в щепу немудрящую крестьянскую мебель. Изрубил скамьи, разнес печь, разворотил полати, высадил рамы и двери. Хотел было поджечь, да Димка не дал: рядом был его дом, а на таком ветру да еще в глухую ночь огонь мог запросто сожрать полсела. Еле заманил Пашку на свое подворье и там поил его самогоном прямо из кринки. Пьяный Пашка не раз порывался к Карасулиным, сковырнуть Онуфриево гнездышко. Но Димка не пустил: пока Онуфрий жив, с ним лучше не связываться, у него за спиной целый полк. Тут уж не до шуток.
— Ладно, — уступил притомившийся Пашка. — Помешкаем. Проводим на тот свет Карасулина, а потом вырву зоб Ромке и всем этим… Комсомолочку мою никому не дам. Сам исть стану. До косточек обгложу. Опосля грянем сюда. Во гульнем!..
Димка скалился, ввертывал похабные словечки, подзуживал друга, не забывая подливать ему самогонки. Чем сильней пьянел Пашка, тем больше зверел, тем невероятнее и страшнее придумывал расправу над семьями ненавистных ему карасулинских дружков.
— Во, зараза! — восхищался Димка. — Тебя бы в ад, главным чертом. Ты бы такое напридумывал…
— А что… — Пашкино сознание угасало, язык еле ворочался, с трудом выталкивая исковерканные, непонятные слова, — могнем… задрумалю сабарзу…
Переполошенные пожаром и Пашкиным разбойным загулом, челноковцы почти не спали в ту ночь. Лихой и страшный человек Пашка Зырянов. Бешеного пса лютей, зверя беспощадней. Наскочит спьяну, и пропала душа ни за понюх табаку. Были бы мужики дома, наверняка скрутили, а то и проучили варнака. Но мужики опять воюют. С кем и за что? За Маркелову власть да за Пашкино самоуправство?.. Вот и прятались теперь челноковцы от этой власти за запертыми воротами, за замкнутыми дверями, спускали с цепи собак, клали на виду топор либо лом.
Затаилось село, напружинилось, напряглось, изготовясь к отпору. Даже бабы не помышляли сдаваться на милость победителя, и Марфа, карасулинская теща, снова положила под подушку тот самый сапожный нож, которым мыслила оборониться однажды от палача Крысикова.
Неузнаваемо изменилось Челноково за какой-то месяц. Даже ребятишки разом и вдруг повзрослели, стали сдержанны и тихи в играх, табунились подальше от взрослых, а разговаривали о том же, о чем и старики, — о мятеже, и ежились пугливо, и жались друг к дружке, когда заходила речь о Пашкиных бесчинствах и зверствах. Прорастали в маленьких сердцах семена ненависти к зыряновым и щукиным, ко всем тем, кого называли «кулак». Крестьянские дети причащались к великой и жестокой классовой борьбе.
Не те стали челноковцы, совсем не те. Сколько раз, бывало, друг дружку от беды всем миром заслоняли. А теперь? На пожар, как и прежде, стар и мал сбежались, но тушили Маркелов дом кое-как, иные махали руками да орали для виду только, а все силы клали на то, чтобы не дать огню разбежаться, на соседние дома перескочить. Топтались вокруг пожарища, галдели, швыряли лопатами снег, но за зыряновским добром и скотиной никто не кинулся в огонь, с пожарной машиной не поспешили, а когда ту наконец прикатили, то добровольные пожарники все больше поливали соседние дома, чтоб огонь к ним не прилепился. И как ни орал Маркел, какие блага вгорячах ни сулил спасителям, — не нашлось охотников рисковать шкурой ради зыряновского добра, и не окажись тут Пашки с дружками, ни одной тряпки не спасти бы Маркелу из своего барахла. Не раз приходила ему на память в эти роковые минуты та ночь, когда вместе с продотрядом сгорел дом Катерины Пряхиной, подожженный им и Пашкой. Тогда он ликовал, глядя, как пламя охватывало со всех сторон большой и нарядный дом, и торопил, и подгонял огонь, чтоб поскорей да пожарче разгорался: тогда никому не подступиться к пылающему дому и никто не увидит, что двери приперты снаружи и пожар начался с улицы.
Что-то крутехонько и скоро не в зыряновскую сторону переломилось в настроении челноковцев. Это Маркел остро почувствовал на пожаре. И Пашка уловил. И хоть хорохорился, напившись у Димки, и то одного, то другого односельчанина порывался телешить, однако грозился больше ради пьяного куражу, потому Димке всякий раз и без особого труда удавалось удержать Пашку на месте.
Читать дальше
![Константин Лагунов Красные петухи [Роман] обложка книги](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-cover.webp)