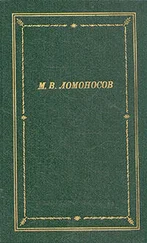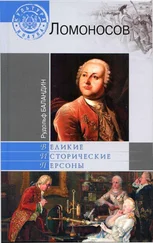Сейчас в работе его ума была ода на случай возвращения императрицы Елизаветы из Москвы в Петербург для приготовления, как поговаривали, войны со Швецией. Стихи клеились, наполнялись гневным вдохновением против шведов и короля их Фредерика [24] Фредрик I Гессенский (1676—1751) — шведский король (с 1720 г.), в 1721 г. был вынужден подписать Ништадтский мир с Россией, который подвёл итоги Северной войны 1700—1721 гг., добиться их пересмотра пытался в ходе новой русско-шведской войны 1741—1743 гг., но и в ней победа оказалась на стороне России.
, коих Елизавете до конца унизить и поразить предначертано!
Едина только брань кровава
Принудила правдивый меч
Противу гордости извлечь,
Как стену, Росску грудь поставить...
Снег мерно похрустывал под валенками, разъезженная санями Большая Перспектива уводила далеко к морю. В сумерках стало безлюдно, влажная изморозь сменилась лёгким морозом; вышедшая из-за туч слегка ущерблённая луна замелькала промеж заснеженных сосен. Кругом было тихо, задумчиво и таинственно красиво. Насыщенный хвоей воздух бодрил лёгкие и румянил щёки. Произнося про себя слова и укладывая их в плотные строки, совершенно увлёкшись рифмами, Ломоносов отрешился от всего, что было вокруг. И он не заметил, как из лесной чащи вышли трое и стали обходить его.
Как стену, Росску грудь поставить… —
повторял Ломоносов речитативом в такт своему мерному шагу и вдруг очнулся от грубого окрика:
— О-го-гой! Стой-ка, купец! Иль нас не видишь?
В призрачном, отражённом от снега свете луны в двух шагах перед собой Ломоносов увидел здоровенного детину в армяке, подпоясанном светлым кушаком, в посконной остроконечной шапке, заломленной на затылок. На тёмном, не видном без света лице лишь поблескивали белки глаз да скалились зубы. Справа стал мужичишка из себя невзрачный, но с колом в руках. Почувствовав скрип снега сзади, Ломоносов сдвинулся на пол-оборота и, скосив глаза, увидел третьего. Бородатый, квадратный, он стоял полусогнувшись, словно готовый кинуться медведь.
— Вы что? Вы чегой-то?! — ещё не до конца осознав намерения ватаги, спросил Ломоносов.
— Га! Чего ему? — ухмыляясь, передразнил детина. — Спрашивает ещё! — А плюгавый мужичишка, вдруг замахнувшись колом, в истошный голос заорал: — А ну, скидовай шапку! Сымай тулуп! И-и-и-шь ты! — И уже нешуточно полез колом к Ломоносову. Сзади послышалось сопение квадратного мужика.
Вспыльчив был Михаила Васильевич. Несдержан и смел, когда вдруг задирали его. В юности среди поморов умным почитался, но тихим не числился. И, взрослым став, никому спуску не давал.
«А тут?! Мало нам Шумахеры и Бакштейны жить не дают, так ещё свои, русские, разбойничают!» — молнией пронеслось в мозгу. И захлестнуло его, понесло удалью, через край выбившейся:
— У-ух, матерь вашу растуды!! Воровство чинить!!
Ломоносов с устрашающим рёвом бросился на мужичишку, в котором заподозрил главного, схватил кол, дёрнул к себе и тут же получил сзади сильнейший удар, к счастью скользнувший по воротнику и пришедшийся в плечо. Прийдись удар в голову — Ломоносову бы несдобровать. «Кистенём бьёт, кат проклятый», — успев крепко уцепить свободный конец кола, подумал он.
Сила была у Ломоносова немалая. Да и свирепел он сразу. Во мгновение, рванув кол и сбросив с него мужичонку, он, словно выполняя ружейный приём, ткнул концом дубья детину в армяке, одновременно уйдя в сторону. Бородач с кистенём, нанося второй удар, промахнулся и, не удержавшись, сунулся в снег возле брошенного оземь скорчившегося детины. Следующий удар колом по голове бородача лишил того чувств. Мужичонка, выпустивший кол, в страхе отскочил, Ломоносов же быстро перешагнул через бородача и стал плашмя дубасить колом по спине детину, который, не сумев стать, на четвереньках, вопя от боли, пытался выползти из-под ударов. Остановившись, Ломоносов яростно взглянул на отскочившего мужичонку, но тот, поняв, что и до него дошла очередь, в испуге бросился бежать.
Кровь толчками билась в жилах Ломоносова, ярость застилала глаза. Но драться было уже не с кем, и разум подсказывал, что ни догонять убегавшего, ни совершать убийство оставшихся не стоит.
Приподнявшись с четверенек, детина, с ужасом оглядываясь, хотел было тоже бежать, но Ломоносов, опять замахнувшись колом, твёрдо объявил ему:
— Стой! Чьи будете?
— Трубецкие мы, — снова упав на колени, пролепетал детина. — Трубецкие! — Шапка слетела с него вместе с наглостью; губы уже не кривились в оскале, а мелко дрожали.
Читать дальше