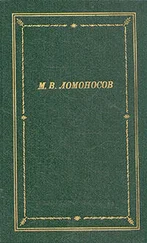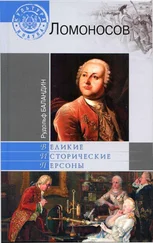Всё утро, как и много дней до этого, сидя за столом. Ломоносов трудился над главными пунктами своей диссертации «О тепле и стуже».
На голове Михаилы был светлый парик, завитый мелкими буклями, кафтан слегка расстегнут, хотя в апартаментах жарко не было; однако полную шею обматывал белый шёлковый шарф. Во всём этом сказывались привычки коренного уроженца севера Руси, которые кутать не кутались, но и зря не заголялись.
«...Теплота состоит в скором обращении маленьких частиц тела около их оси...» — писал Ломоносов разборчивым почерком, и неоднократно продуманные, выстраданные в нелёгких умственных усилиях мысли выстраивались в плотный ряд основательных заключений.
«Конечно же, так», — в который раз укреплял он себя в только что изложенных утверждениях. И ему хотелось верить, что многие из вводимых им в российский язык учёных слов, вот к примеру «частица», долго жить будут и достанутся в употребление потомкам.
«Всё в мире суть движение. И нагревание тел есть движение, которое мельчайшим частицам вещества огонь сообщает. Больше огня, больше движения, и частицы сильнее в мостах своего закрепления шатаются. А закреплены они силами сцепления, и сцепляются частицы по-разному». «Вот опять новое слово — «сцепление», — подумал он. — Ну да чего же? По-русски звучит сие. А то ведь немцы свои слова всунут. Потрафи им чуть, так они и напишут «антлия пневматическая», вместо того чтобы просто сказать «воздушный насос». Да и мало ли чего ещё!»
Ломоносов сунул руку под парик, почесал затылок, затем сердито скинул его вовсе и бросил на стол, словно эта немецкая неудобная и обязательная принадлежность и была той «антлией», которую надо было отбросить.
«Да! Движение частиц, сцепление преодолевающих! То есть: «основание, которое по всей физике поныне неизвестно и не только истолкования, но ещё имени не имеет», — написал он и поставил жирную точку.
Мысли, записанные Ломоносовым, шли поперёк тем воззрениям на теплоту, которых держалась не только Российская академия, но и вся мировая наука. И маститый Вольф [21] Вольф Христиан (1679—1754) — профессор математики и физики Марбургского университета, известен как философ — популяризатор идей Г. Лейбница, на основе которых стремился разработать единую систему человеческого знания.
у которого Ломоносов учился физике в Марбурге, хоть и любил механику, считая её наукой наук, а движение — основой физики, не раз повторял своему ученику:
«Движение одно свойство материи есть, теплота — другое. И теплота подчиняется высшему знанию, а пути её передачи смертными пока не познаны!»
И Вольф, тыча пальцем в тетрадь Ломоносова, заставлял его дословно записывать туда свои полные стройной мудрости речи. А потом дотошно, с немецкой пунктуальностью, требовал повторения их изустно слово в слово.
«И пока наиболее основательно думать, — повторял Вольфу свой урок Ломоносов, — что теплота есть особая материя. Не газ, не жидкость, но чудесная субстанция, легко от горячего тела к холодному перетекающая. Называется та материя — флогистон, и физикам большая задача есть: измерить, имеет ли эта материя вес или она, божьим помыслом, от весомости освобождена».
Ломоносов недовольно поморщился от этих воспоминаний, высокий лоб прорезали складки, и он вдруг сердито выдохнул воздух.
— Взвешу я этот флогистон! — прихлопнул ладонью по столу Ломоносов. — Взвешу! И тогда не будет никакого «флогистона»! — Но это была уже совершенная крамола, и потому подобные мысли Ломоносов до поры публично не высказывал, хотя и понимал, что это рано или поздно придётся сделать.
«Придётся! Диссертацию-то ведь надобно будет подать на обсуждение конференции. То-то дело будет!» — подумал он о высшем учёном собрании Академии наук и сокрушённо покачал головой.
Дверь физического класса тихонько скрипнула, Ломоносов вскинул брови и уставился на бочком протиснувшегося в дверь копииста Ивана.
— Здравствуйте, господин адъюнкт, — весело, без всякого подобострастия поздоровался Иван, знавший простоту и неспесивость Ломоносова в обращении с людьми, не осенёнными чинами и званиями.
— Здравствуй, господин писец. А ты что, моё имя забыл?
— Не забыл, Михайло Васильевич! Но ведь адъюнкт-то красивее.
— Не скажи, — Ломоносов помотал головой. — Не скажи! Да к тому же не имя красит человека, а человек имя. — Он секунду помолчал и продолжил вопросы: — Но ты ведь не за тем пришёл, Иван?
— Не за тем... — Иван помялся и вдруг решительно выпалил: — Взяли бы вы меня в ученики, Михайло Васильевич. Я бы целый день физические трубы мастерил. А ночью глядел в них. — Иван просительно и с надеждой уставился в лицо Ломоносову, вызвав в нём сочувствие и воспоминания о прошлом — о собственной молодости и неудержимой тяге к свету знаний, о поиске хороших учителей и великой их ценности.
Читать дальше