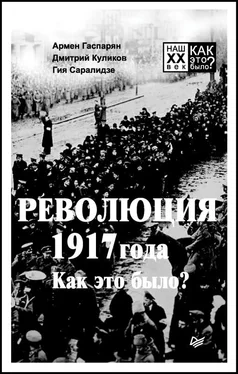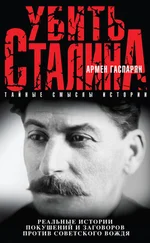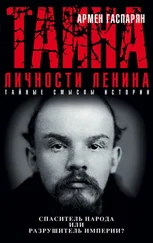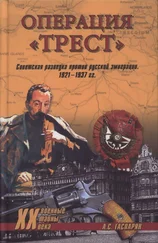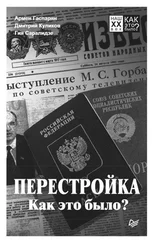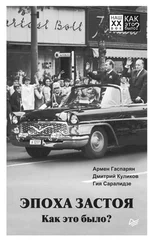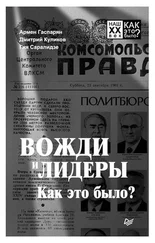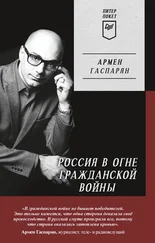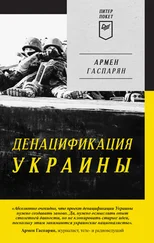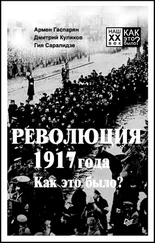А. Гаспарян:С артиллерией то же самое.
Д. Куликов:Потому что все легкие танки… Выяснилось в Испании, что какая-то большая проблема с ними. Параллельно Жуков, применив новый гений полководческий, умывает японцев на Халхин-Голе. Техника вроде та же самая, но японцы терпят сокрушительное поражение. То есть генштабовский талант у нас есть, но это ставит вопрос: значит, можем же и на этой технике, может быть, не надо горячиться с перевооружением? Поэтому мы с кошкинским Т-34 с таким трудом прорываемся. И с «катюшей». Все же есть в огромных количествах, и все заводы работают. Но никто напрягаться не хочет. И только Финская кампания позволила все это сдвинуть. До войны год остается. Я немножко упростил для иллюстрации положения в целом.
Г. Саралидзе:Ну схематично, да.
Д. Куликов:Проиллюстрировал, с чем, с каким управленческим объектом мы имели дело…
Г. Саралидзе:Я понимаю тезис о том, что нужно было переходить на другую систему формирования армии, потому что перед ней стояли иные задачи, плюс научно-технический прогресс и так далее. И военная мысль двигалась вперед, нельзя было оставлять армию в том виде, в котором она была создана под Гражданскую войну исходя из тех целей, задач. Но все-таки у меня возникает вопрос по поводу того, что ты говорил, Дима, о Реввоенсовете как некой параллельной структуре. Ты же знаешь, когда в структуру закладывают какую-то суть, структура по этой логике уже и развивается.
Д. Куликов:Конечно.
Г. Саралидзе:Могут меняться люди, но принципы остаются. Меня интересует, каким образом то, что происходило (замена Реввоенсовета другими моделями, внутриполитическая борьба…), преследовало сразу две цели: и перевооружение, переход на другие рельсы и в то же время укрепление собственной власти Сталина?
А. Гаспарян:Ну ответ будет чрезвычайно прост. Ты вспомни, что тогда же, в 1934 году, у нас упраздняют еще одно параллельное учреждение, которое называется ОГПУ, и на его базе создается НКВД. Почему? Потому что как Троцкий пытался создать государство в государстве, так и чекисты на определенном этапе порывались сделать то же самое, когда особые отделы пытались еще вмешиваться в то, что происходило в Красной армии. 1934 год – это, по сути дела, переход уже на принципиально новую модель управления государством. Теперь чекисты не имели никакого отношения к армии. Для чего это требовалось сделать? Во-первых, к тому моменту уже все прекрасно понимали, что это тупик. Абсолютный. Там такие прожекты были… Скажем, Тухачевский прославился тем, что ему надо было сто тысяч танков в 1928 году. Но я напоминаю, что на 1941 год во всем мире столько еще не было. Подобных идей было великое множество. Мало того что это все было невозможно реализовать, так еще и отвлекало внимание от главного. Мы – государство в кольце врагов. У нас пятилетки. Мы сделали гигантский шаг в промышленности. Но с точки зрения армии у нас те годы были потерянными. Это надо честно признать. У нас любят говорить, что это не так, мол, посмотрите биографии маршалов, сколько их вышло из рядов Первой Конной армии или Второй. Правильно, они действительно вышли. Но чем они занимались до, условно, 1935 года? И чем стали заниматься потом? С какого момента, к примеру, будущий маршал бронетанковых войск занимается танками, а вовсе не развитием кавалерии где-нибудь в Средней Азии?
Дмитрий совершенно правильно говорит: в учебниках не говорилось, что такое Реввоенсовет. А были ведь реввоенсоветы фронтов, Реввоенсовет армии. Нам это никто не объяснял. Все знали, что такое Наркомат обороны. Я тебя уверяю, что если мы сейчас с тобой выйдем на улицу и спросим, когда был ликвидирован Реввоенсовет…
Д. Куликов:После Гражданской войны.
А. Гаспарян:После Гражданской войны. А зачем он был нужен? Если ты людям скажешь, что он существовал вплоть до 1934 года, они будут крайне удивлены.
Г. Саралидзе:Ушел от ответа, по-моему, сейчас Армен…
А. Гаспарян:Ушел?
Г. Саралидзе:Я имею в виду, было ли это укрепление, в том числе личной власти.
Д. Куликов:Да, конечно, было.
А. Гаспарян:В том числе государственной.
Д. Куликов:Вообще вся сталинская эпоха – это строительство властно-политических механизмов в стране. А Сталин был и строителем, и пользователем главным. Здесь не надо ломиться в открытую дверь. Я же только против одного: сводить все к некоторой параноидальной шизофреничности Сталина. Вот мы назвали его параноидальным шизофреником и этим все для себя объяснили. Я категорически против такого подхода. А боролся ли Сталин за власть? Да, безусловно, боролся. Стремился ли он к тому, чтобы эта власть была монопольной и фактически диктаторской? Стремился. Я думаю, что он делал простой вывод: если она не будет такой, то власти и страны просто не будет. Он из этого исходил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу