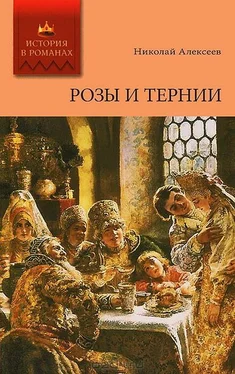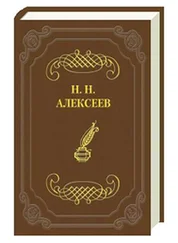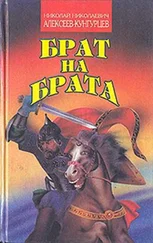По двору были разбросаны в изрядном беспорядке служебные постройки. К двору прилегал сад, представлявший из себя, с одной стороны, остаток некогда росшего тут дремучего леса, а с другой — бывший вместе и огородом.
В одной из горенок сидели две девушки. Одна из них — невысокого роста, белолицая, с золотистыми волосами и ясными бирюзовыми очами — была дочь хозяина дома, Аленушка; другая — темноволосая и черноглазая, стройная — приходилась Луке Максимовичу родной племянницей; она была круглая сирота, дочь его брата, Тихона Максимовича. Звали ее Дуняшей.
Обе девушки работали; Аленушка, сидя за пяльцами, вышивала, Дуняша трудилась над каким-то вязаньем. Однако работа, по-видимому, не особенно спорилась, потому что хозяйская дочь то и дело приподнимала голову и посматривала на окно, через которое врывались в комнату лучи зимнего солнца, а племянница, выпустив из рук вязанье, часто позевывала. Скука одолевала боярышень. Аленушка попробовала было затянуть какую-то песенку, но пенье не заладилось, как и работа.
— Не идет что-то сегодня мое вышиванье… Ну его! Не буду и работать, коли так! — воскликнула Аленушка, решительно бросая иглу.
— И у меня тоже не больно ладится, — ответила Дуняша. — Скучища смертная!
— Что и говорить!
— А погодка-то какая! Знаешь что, Дуняша, — быстро сказала хозяйская дочь, — бросим работу, поедем лучше кататься.
— Это б ладно! Да не пустит Марфа Сидоровна.
— Попросить ее получше… Авось… Побежим к ней!
И, не дожидаясь согласия своей двоюродной сестры, Аленушка, с легкостью лани, побежала из горницы. Дуняша побежала за нею следом.
Хозяйку дома, Марфу Сидоровну, они встретили в сенях. Она разговаривала с Панкратьевной, старухой-нянькой Аленушки, вырастившей боярышню на своих руках. Боярыня, высокая, полная женщина, с лицом цвета красной смородины, с густыми короткими, взъерошенными бровями и быстрыми маленькими узкими глазками, производила впечатление бой-бабы. Панкратьевна была небольшая, согнутая летами, худенькая старушка с морщинистым лицом и добродушными подслеповатыми глазками.
— Что вы бежите, ровно с цепи сорвались? — зычным голосом спросила боярыня, увидев сбегавших с лестницы боярышень.
— А мы к тебе, матушка! — ответила слегка запыхавшаяся Аленушка.
— Что вам?
— Глянь, погодка-то какая!
— Ну?
— Пусти, матушка, покататься!
— Тетушка, голубушка, дозволь! — поддержала просьбу Аленушки Дуняша.
— Нельзя! — отрезала Марфа Сидоровна.
Боярышни печально переглянулись.
Им на помощь явилась Панкратьевна.
— А ну, боярынька, — зашамкала она, — чего их не пустить? Знамо дело, молодые, погулять хочется. Что и дома-то им делать? Пущай прокатятся…
Боярышни на разные лады начали упрашивать Марфу Сидоровну. Та еще некоторое время упрямилась. Потом сдалась.
— Что с вами делать! Ишь, и Панкратьевна просит… Балует она вас, старая! Поезжайте, Бог с вами!
Девушки с радостными криками побежали одеваться. Скоро запряженный в сани старый Гнедко уже фыркал у крыльца, и Мартын, седобородый кучер, уже сидел на облучке.
— Ты смотри, Мартын, не вывали боярышень! — говорила Марфа Сидоровна, провожая девушек.
— Не-не! Можно ль такое! Слава богу! Сорок лет езжу! — ворчливо шамкал возница.
— Гнедко не понес бы грехом…
— Хе-хе! Где ему! Ноги еле волочит старый конь.
— Ну, с Богом!
Мартын дернул вожжами.
— Стой, стой! Аленушка!
— Ась?
— Надела ль душегрею под шубейку?
— Надела, надела.
— А ты, Дуня?
— И я тож.
— То-то же. Ну, поезжайте… Да, слышьте, не долго катайтесь…
Гнедко труском вывез сани за ворота.
— Вот и покатаемся! Лучше, чем за пяльцами-то сидеть, — сказала Аленушка.
— Еще бы! — ответила ее спутница.
— Куда ж ехать-то нам, боярышни? — обернувшись, спросил Мартын.
— А где дорога получше, — промолвила хозяйская дочь.
— Да она везде теперь, почитай, хороша… К леску, что ль?
— Хоть к леску…
— Э-эй, Гнедка! Приналяг, старый! — прошамкал кучер, хлестнув коня.
Гнедко зачастил мелкою рысью.
Боярышни не были привычны к быстрой езде, и бег старого коня не казался им тихим. Говорили мало. Мороз слегка пощипывал щеки и заставлял боярышень кутаться в шубки.
Мартын хрипло мурлыкал какую-то песню, в которой упоминалось и о молодом ямщике, и о тройке лихих коней, и о красной душе-девице.
Аленушка прислушивалась к песне. Что-то вроде легкой грусти начинало шевелиться в сердце боярышни: пелось о той жизни, которая была недоступна для затворницы терема, пелось о любви и ее страданиях и радостях.
Читать дальше