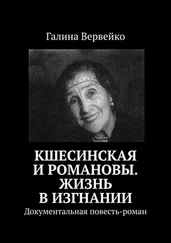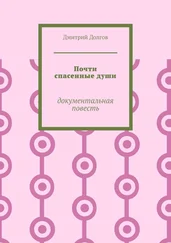Табор прикрытия был изрублен. Казаки и осетины углублялись в горы. Турки завалили дороги в узких местах артиллерийскими фурами, пушками, зарядными ящиками. Но эти препятствия быстро разбирались передовыми группами преследования, и конница стремительно двигалась вперед, оставляя за собой сотни вражеских трупов.
День уходил. Очертания западных Балкан таяли в вечерних сумерках. Никого уже не видно было впереди. Остатки уничтоженного гарнизона Ловчи в одиночку расползлись по скалистым горам, чтобы пробиться на Медевен и Плевну.
Не видя перед собой противника, осетинские сотни, терцы и кубанцы вернулись в освобожденную Ловчу.
* * *
Через два дня князь Имеретинский доложил Главнокомандующему Дунайской армии:
«Взято два знамени. Одно из них представляю, другое хранится в Калужском полку, дерущемся в настоящее время с противником, а потому представить его не могу.
По выступлении моем из Ловчи, генералом Давыдовым в центре и на моем левом фланге позиции неприятеля похоронено 1200 тел. Во время нахождения отряда в Ловче 23 августа похоронено 1000 тел. Во время преследования неприятеля 22 августа Кавказской бригадой и эскадроном собственного его величества конвоя изрублено 4000 человек». Далее в донесении перечислялись трофеи.
Так закончилось дело 22 августа.
Победа у Ловчи была добыта ценой великого ратного труда русских воинов при весьма незначительных потерях. Но потеря и одного боевого товарища, горька и безутешна.
Вечером 24 августа охотники Осетинского дивизиона понесли на высокий холм завернутого в зарамагскую бурку Гуда Бекузарова, за ним шел осиротевший боевой конь. Друзья положили тело героя к братскую могилу — рядом с русскими богатырями, павшими при штурме города и, склонив голову, произнесли тихое слово:
— Рухшаг [17] Рухшаг ( осет .) — вечная память.
.
Падение Ловчи перепутало все карты Турецкого командования. Теперь войска корпуса Сулеймана-паши как бы отодвинулись от Плевненского укрепленного лагеря, в котором находилась многотысячная армия Османа-паши. Взятие Ловчи и уничтожение ее гарнизона русскими войсками обеспечивало безопасность Шипки с юго-запада. Этим и объяснялось сравнительное затишье на Шипкинском рубеже.
Но укрепленный лагерь Плевны сковывал значительную часть Дунайской армии на ее правом фланге и, естественно, не давал покоя русскому командованию. Передовая часть офицерства и такие генералы, как Скобелев, утверждали, что только прочная круговая осада Плевны обеспечит безопасность Западного отряда, а следовательно, и удержание Балкан. Блокада требовала большого резерва войск. Они еще формировались в глубине России.
Армия не располагала достаточными силами ни для осады, ни, тем более, для штурма города-крепости Плевны. Но в разгар Ловчинского сражения к Западному отряду генерала Зотова присоединились Румынский корпус и пять кавалерийских полков из бывшего передового отряда Гурко.
Окрыленный солдатской славой ловчинской победы Главнокомандующий великий князь Николай принял решение — наступать. Перед ним лежала прекрасно вычерченная карта укрепленного лагеря. Несколько ярусов глубоких траншей окружают Плевну. Обращенная к русским войскам линия обороны имеет протяжение 15 верст. Это — внешний обвод крепости. Несколько рядов укреплений, связанных между собой лабиринтом ходов сообщения с перекрытиями; на господствующих высотах — свыше 70 орудий. Гарнизон лагеря составил 36 тысяч аскеров низама, не считая конницы башибузуков.
Главнокомандующий и его штаб должны были исходить из опыта предыдущих неудачных сражений у Плевны и разработать глубоко продуманный план, учитывая, что штурм такой твердыни может повлечь за собой огромные потери русских войск.
Но на этот раз, после очередного приступа меланхолии, в штабе Дунайской армии царили «шапкозакидательские» настроения.
Чтобы выиграть «Третью Плевну», нужны были тщательная подготовка к наступлению и выбор удачного момента для штурма. Главнокомандующий пренебрег этими требованиями. Он назначил атаку на день именин Александра II, дал ему многообещающую телеграмму, и 30-тысячная армия двинулась вперед.
Не было осадных орудий. Артиллерийскую стрельбу затрудняла плохая видимость из-за дождливой погоды. Главный удар был направлен именно туда, где противник больше всего ожидал этого — на восточные укрепления лагеря (холмы Омар-Табия). Командир корпуса, наступавшего на центральном участке, Крылов, бросал в бой разрозненные полки и батальоны своих дивизий, не соблюдая элементарный принцип наращивания удара. Действия этого генерала нельзя даже назвать управлением войсками. Как видно из всех оперативных документов, это было преступное расточительство сил в бесплодных лобовых атаках отдельных частей.
Читать дальше
![Мамсур Цаллагов На войне Дунайской [Документальная повесть] обложка книги](/books/420469/mamsur-callagov-na-vojne-dunajskoj-dokumentalnaya-cover.webp)
![Михаил Бочкарев - Моя война [Документальная повесть]](/books/24692/mihail-bochkarev-moya-vojna-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)
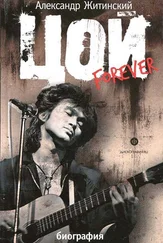


![Валентин Сидоров - Семь дней в Гималаях [документальная повесть]](/books/397216/valentin-sidorov-sem-dnej-v-gimalayah-dokumental-thumb.webp)
![Юрий Виноградов - Непокоренный остров [Документальная повесть]](/books/407045/yurij-vinogradov-nepokorennyj-ostrov-dokumentalna-thumb.webp)
![Степан Швец - Рядовой авиации [Документальная повесть]](/books/419151/stepan-shvec-ryadovoj-aviacii-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)
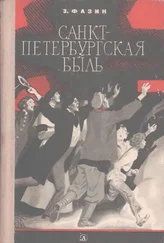
![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/422988/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta-thumb.webp)