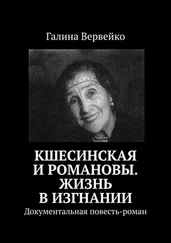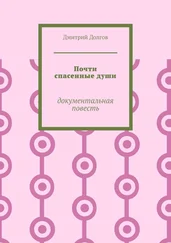Для того, чтобы укротить воинственный пыл осетинских всадников, полковник предложил послать к ним в цепь кого-нибудь из их земляков, чтобы передать приказ об отходе.
Генерал Скобелев невольно залюбовался боевым азартом лихих джигитов и с удовольствием наблюдал, как они неохотно покидали поле боя, а отдельные группы вновь бросались на противника.
Медленно они отступали, но порывисто бросались в сторону Плевны, готовые при первом поводе завязать общую драку. Велико значение в военном деле предприимчивой и смышленой конницы, какую представляли собой эти охотники — горцы и представители кавказских станиц…»
* * *
Укрепленный лагерь Плевна с его почти 30-тысячным гарнизоном отборного турецкого низама (включая прикрытие Софийского шоссе) представлял серьезную угрозу правому крылу русских войск. Главная квартира. Дунайской армии разрабатывала одну за другой диспозиции для разгрома плевненской фаланги турок.
Наиболее дальновидные военачальники считали, что само по себе взятие Плевны не даст ощутимого тактического успеха: этот город стоит в глубокой котловине. Если овладеть господствующими высотами и держать плевненский лагерь в длительной осаде, то цель будет достигнута, турки не посмеют предпринять наступательное движение с этой стороны. При этом учитывалось, что главное внимание противника будет обращено на стремительное продвижение передового отряда Гурко на юг Болгарии. Генерал Скобелев часто говорил своим офицерам о необходимости создать вокруг Плевны «свою Плевну», которая сможет стать несокрушимой твердыней на западном участке театра военных действий. В сущности, мысли Скобелева воплотились в жизнь, но это произошло накануне завершения войны, после того, как у стен Плевненского укрепленного лагеря пали тысячи русских воинов.
Несколько опережая хронологию событий, приведем высказывание генерала Гурко об открывшихся возможностях передового отряда вскоре после перехода Балканских гор.
И. В. Гурко представил в Главную квартиру смелый план разгрома по частям только что прибывающей из Герцеговины армии Сулеймана-паши:
«Все многочисленные показания, — писал Гурко, — одинаково утверждают, что как в турецких войсках, собранных в долине Марицы, так и среди турецкого населения, царствует еще пока страшная паника. Из Филиппополя все более богатые жители бегут; оставшиеся же на местах долго рассуждали, как поступить им в случае появления наших войск и, наконец, решили покориться без сопротивления и выдать оружие. Настоящее время есть самое благоприятное для нанесения решительного удара. Положительно можно сказать, что мы теперь имеем полную вероятность одержать блестящий успех в случае нашего наступления и что для этого не потребуется больших сил. Можно, пользуясь теперешней обстановкой, разбить всю армию Сулеймана-паши по частям и по мере того, как части эти будут пребывать».
Этот план не получил одобрения Главного командования. Великий князь Николай Николаевич предоставил генералу Гурко действовать по его усмотрению, не дав требуемого усиления боевых сил отряда.
А начальник штаба генерал Никопойчицкий сообщил о тяжелом положении русских войск после неудавшегося второго штурма Плевны.
Можно без преувеличения сказать, что эта инертность Главного командования дорого обошлась России. Неверие в боевые качества передового отряда, в котором воплотилось замечательное содружество русских и болгарских воинов, а также недооценка высказанных генералом Гурко соображений о панике в стане врага привели к тому, что армия Сулеймана спокойно выгрузилась с кораблей и повела контрнаступление. Турки воспряли духом, и завязалась кровопролитная борьба, которая унесла десятки тысяч жизней солдат и офицеров Дунайской армии.
Но вернемся к Западному отряду.
В 6 часов утра 18 июля Кавказская казачья бригада получила общую диспозицию наступления на Плевну. Для ее штурма было сгруппировано большое войско. С артиллерией и конницей эта группа насчитывала 32 тысячи человек.
Командование замышляло «охватить» Плевну с двух сторон, имея в центре резерв для оказания поддержки той или другой стороне. Оконечность левого фланга (юго-западное направление) должен составить отряд генерала Скобелева из 7 казачьих и трех осетинских сотен при двух батареях легких горных орудий. Заметим, что силы наступающих на этом участке, вопреки уставам всех армий мира, были в в два раза меньшими, чем у противника, сидящего за многоярусными укреплениями.
Читать дальше
![Мамсур Цаллагов На войне Дунайской [Документальная повесть] обложка книги](/books/420469/mamsur-callagov-na-vojne-dunajskoj-dokumentalnaya-cover.webp)
![Михаил Бочкарев - Моя война [Документальная повесть]](/books/24692/mihail-bochkarev-moya-vojna-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)
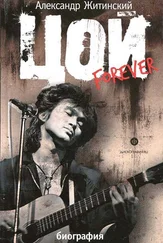


![Валентин Сидоров - Семь дней в Гималаях [документальная повесть]](/books/397216/valentin-sidorov-sem-dnej-v-gimalayah-dokumental-thumb.webp)
![Юрий Виноградов - Непокоренный остров [Документальная повесть]](/books/407045/yurij-vinogradov-nepokorennyj-ostrov-dokumentalna-thumb.webp)
![Степан Швец - Рядовой авиации [Документальная повесть]](/books/419151/stepan-shvec-ryadovoj-aviacii-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)
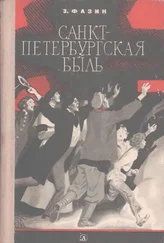
![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/422988/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta-thumb.webp)