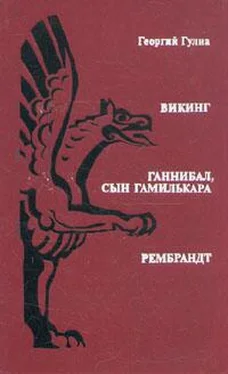— Он пережил драму со стрелками. Он похоронил Саскию. Скандальная история с женщиной по имени Геертье Диркс — тоже позади. Титус растет. Сыну уже тринадцать лет. Вспоминаете даты?
— Нет. Не совсем… А когда появилась Стоффелс?
— Где-то после сорок пятого. Или чуть раньше…
Эфраим Бонус, довольный, потирал руки. Сверкнул большими зрачками. Сказал с неистребимым португальско-испанским акцентом:
— Ваш сын сегодня мне понравился. Весел, здоров, аппетит отменный.
— А бледность, доктор?
— Дети растут, меняются все время. Сегодня бледен, завтра, после хорошей прогулки, — порозовеет… О, что это?
Доктор Бонус взял со стола огромное яблоко. Оно как бы светилось изнутри.
— Оно настоящее? — спросил доктор. — Где вы его купили?
— Моряки привезли. Из Алжира.
Служанка внесла блюдо с жареным мясом. Художник откупорил бутылку французского.
— Кто она? — спросил Бонус, когда служанка вышла на кухню.
— Она? — Рембрандт посмотрел на дверь, в которую вышла девушка.
— Очень мила. Новенькая?
— Она? — машинально спрашивал художник. — Она — служанка. Мне бы экономку. Но где найдешь так быстро?
Доктор надкусил яблоко. Сладко почмокал.
— Хорошо! Прекрасный плод! — Но вдруг улыбнулся, хитро заметил: — Но она лучше.
— Хендрикье?
— А звать ее Хендрикье?
— Хендрикье Стоффелс. Деревенская. Неотесанная. Вы уж извините ее.
Рембрандт продолжал смотреть на дверь.
— Очень мила… — повторил господин Бонус.
— Она внимательна к Титусу. Я очень благодарен ей.
— А сколько ей лет, господин ван Рейн?
— Ей? — Рембрандт казался рассеянным. — Наверное, двадцать — двадцать три. А что?
— Знаете, как называют такую мавры?
— Какие мавры?
— Испанские, например.
— Не знаю. Как, господин Бонус?
— Несверленый жемчуг.
Рембрандт расхохотался, принялся разливать вино.
— Как, господин Бонус? Повторите, пожалуйста.
— Несверленый жемчуг.
— Восток есть Восток! — сказал Рембрандт, все еще содрогаясь от смеха. — Несверленый жемчуг! А кто это может доказать?
Доктор Бонус поднял бокал, заговорщически огляделся.
— Вы, например, — сказал он.
— Я? — Рембрандт удивился. Поставил на стол недопитый бокал. — С чего вы взяли?
— Вы же мужчина, господин Рембрандт. Наконец, жизнь есть жизнь. А она и впрямь хороша. Обратите внимание на грудь, на талию, на ноги. Чудо!
Вошла Хендрикье. Лицо ее было свежим, щеки пылали, глаза опущены — ни на кого не глядит, платье облегает груди, которым явно тесно.
Доктор подмигнул Рембрандту. Художник сделал вид, что не заметил игривого поведения доктора. Скосил взгляд и наткнулся на ноги Хендрикье: точно литые…
Из разговора в Музее Бойманса — вам Бённингена. Роттердам. Апрель, 1984 год.
— На кого похож Титус? На отца? На мать?
— Трудно сказать. Больше черт отцовских.
— А губы?
— Губы скорее материнские.
— Сколько ему лет на картине? Тысяча шестьсот пятьдесят пять минус тысяча шестьсот сорок один. Значит, лет четырнадцать.
— Титус держит в руке карандаш. Перед ним листки бумаги. Задумался. А сколько отцовской любви вложено в портрет!
— Да, залитый светом мальчик, светящийся изнутри. А где его более ранний портрет?
— В Америке.
— С огромной любовью написан еще один портрет Титуса. Он сидит с книгой в руках, читает что-то занимательное. А на него с верхнего левого угла льется золотой рембрандтовский свет.
— Где он находится?
— Я видел портрет в Вене. В Музее истории искусств. Рядом с двумя автопортретами отца.
— Славный мальчик. О чем он думает? Может, вспомнил что-либо из того, что рассказывал ему отец о несчастной Саскии…
— Мальчик задумался. Мир в его глазах чист и светел…
Поздний вечер. С моря дует пронзительный ветер. Он способен пройти сквозь грудь, как стрела, как пуля. Рембрандту захотелось огня в камине. Не потому, что очень прохладно, а для глаз — пусть пылает пламя, пусть оно рвется кверху. От него легче на душе.
Титус спит этажом выше. Титус — слава богу! — уже перешагнул роковой порог. Пусть не так крепок, как бывают иные дети, скажем, на лейденских мельницах, но достаточно резв, достаточно смышлен.
Сегодня за день кое-что сделано: хороши оттиски с досок, на которых художник удачно схватил нищих, беседовавших на улице. Да и этот вид на Амстел не так дурен, как показалось вгорячах. Несколько сакраментальных мазков по «Данае», пожалуй, приблизили работу к концу, и холст можно будет снять с мольберта… Любопытно, что скажут амстердамские мастера, когда он выставит для обозрении многострадальную «Данаю»?.. Пусть точат языки на все лады — дело сделано. Правда, эти ополченцы до сих пор не могут успокоиться — ну и бог с ними! Лучше не думать о них, но смотреть вперед. Ученики есть, они будут еще. Силы достанет в руках и ногах, холст и японская бумага — под рукой. А чего еще надо мастеру, если в нем не угасла искра?
Читать дальше