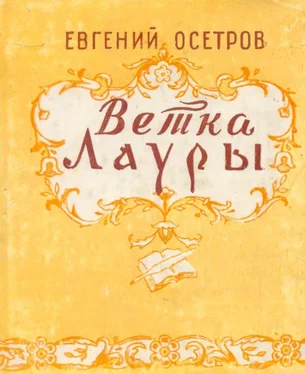В письмах непременно следовали наказы, самые строжайшие, от старого князя дядьке Курицыну: строго следить за здоровьем слабого Сашеньки и печься о том, чтобы барчук ни в чем не испытывал нужды. Александр Иванович лишь весело смеялся.
— Иван, — говорил Одоевский, — тебе старый князь кланяется и вся деревня шлет поклоны.
На это Курицын отвечал совсем, как бывало в Петербурге, в роскошно обставленной гостиной:
— Дай бог здоровья его сиятельству, милостливому государю, князю Ивану Сергеевичу!
Разница была лишь в том, что после этих слов в Петербурге Курицын величественно удалялся, а здесь он садился на кушетку, жалостливо подпирал подбородок кулаком и вслух начинал думать:
— А теперь в Николаевском благодать. Мужики пешнями лед рубят, коровы, поди, начали телиться.
От этих слов веяло такой дремучей мужицкой тоской, что Александр Иванович был готов разрыдаться.
С трудом сдерживая слезы, Одоевский садился за старый клавесин и брал первые аккорды «Тетушки Авроры» Курицын же шептал:
— Ох, лихо мое смертное…
Но однажды произошло совершенно необычное. Вбежал в комнату запыхавшийся Курицын, стряхнул с шапки снег и закричал:
— Батюшки, Александр Иванович, новинка-то какая…
— Что стряслось? — перепугался Одоевский.
— Посельщика привезли.
— Кого?
— Не запомнил фамилию. Поляка какого-то. За крамолу к нам отправили. Вид у него страсть какой гордый.
Через несколько минут новый «посельщик» сидел уже в «фонаре» Одоевского. Это был еще сравнительно молодой человек, с тонкими и приятными чертами лица. Он плохо говорил по-русски и очень обрадовался, когда беседа потекла по-французски, который оба собеседника знали в совершенстве.
Ссыльный поляк оказался Адольфом Михайловичем Янушкевичем. Он был всего на год моложе Одоевского, и в их судьбе оказалось очень много общего. С детства увлекаясь живописью и поэзией, он на долгое время оставил родную Варшаву, совершив поездку во Францию и Италию. Вернулся на родину Янушкевич уже преисполненным вольнолюбивых идей. Он, не стесняясь, говорил вслух:
— Царь — вот кто враг и русских, и поляков.
Он вступил в польское Патриотическое общество и вскоре, будучи арестованным по доносу, последовал в Сибирь, туда, где уже жили декабристы.
Теперь время в Ишиме потекло заметно быстрее и веселее. Поселившись вместе, целыми часами друзья беседовали, рассказывали друг другу о своей жизни, спорили о литературе, музыке и живописи, о новых книгах, вспоминали любимые женские образы. Но чаше всего все-таки говорили «о ней», пили вино, поднимая тост за «нее». Так именовали ссыльные свободу, помыслы о которой привели их в суровый дикий край. Садясь за стол, Александр Иванович говорил:
— Меня любовь томила двадцать лет,
Но я был бодр в огне и весел в боли…
— Постойте, — кричал Янушкевич, — откуда эти стихи?
— Из Петрарки. Не так ли и мы верим своей возлюбленной, как великий итальянец своей Лауре?
— В таком случае, я вас обрадую, дорогой друг. У меня есть нечто такое, что…
Янушкевич кинулся к своему чемодану, стал быстро выбрасывать вещи и на самом дне обнаружил толстую книгу. Он открыл массивный переплет, перелистал страницы и достал ветку дуба с двумя ответвлениями и крупным желудем.
— Полюбуйтесь, маэстро, — сказал Янушкевич, подавая ветвь Одоевскому.
— Что это такое?
— Во время моих блужданий по югу Франции я побывал в Авиньоне. Там над могилой Лауры, где так безутешно рыдал Петрарка, вспоминая умершую возлюбленную, вырос дуб. Это ветка с дуба над могилой Лауры.
— Боже мой! — воскликнул Александр Иванович, — кто б мог подумать, что в Сибири можно встретить ветвь авиньонского дуба Лауры!
— Мы будем также верить ей — сказал Янушкевич. — как Петрарка Лауре. Поэт Италии через всю жизнь пронес нежный любимый образ.
Поляк разломил ветвь дуба пополам и подал ветку с желудем Одоевскому:
— На вечную память, друг. Нас связывают одни узы. За вечное братство славян! За свободу!
Друзья обнялись и расцеловались.
Александр Иванович начал расхаживать по комнате. Потом спросил:
— Воклюзский ключ, в водах которого Петрарка увидел отражение Лауры, ты тоже посетил?
— Я пил из его струй.
Александр Иванович побледнел, сыграл несколько аккордов на клавесине, вновь прошелся по комнате и сказал:
— Слушай.
Зазвучали пламенные и нежные стихи:
В странах, где сочны лозы виноградные,
Где воздух, солнце, сень лесов
Дарят живые чувства и отрадные,
И в девах дышит жизнь цветов.
Ты был! — пронес пытливый посох странника
Туда, где бьет Воклюзский ключ…
Где ж встретил я тебя, теперь изгнанника?
В степях, в краю снегов и туч!
Читать дальше