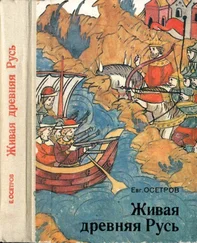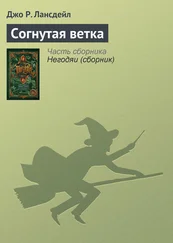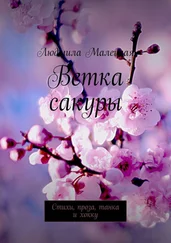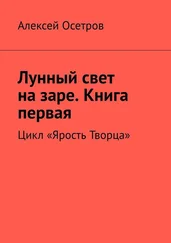Совершенно безвестный владимирский учитель выступил принципиальным врагом карамзинистов и их слащавых «чувствительных путешествий», вроде процитированного выше сентиментального сочинения Ивана Михайловича Долгорукова. Если князь умиляется розовым, цветочкам и прекрасным птичкам, то Ферельтц открыто полемизирует с таким взглядом на окружающее. Он пишет: «Не везде миртовые аллеи; не везде резвые ручейки с нежным журчанием пробегают по камешкам; не везде слышно сладкогласное пение соловья. Есть места дикие, каменистые, песчаные, безводные, где ничего не слышно, кроме отвратительного карканья галок и ворон».
В «Путешествии критики» мы часто встречаем литературные образы, взятые из революционной публицистики. Владимирский учитель не называет селений, по которым он проезжал. Да это и неважно для читателя, ибо в форме писем, связанных единством идейного замысла, предстает поездка за правдой, за неприукрашенной действительностью.
«Любезный друг! — восклицает автор. — Судьба как бы нарочно водит меня в путешествии моем большею частию по таким местам, где вижу я одно развращение человеческое, высказывающееся в различных видах. Там видел и двух жестокосердечных владельцев, мучающих крестьян своих страшными налогами…».
Седой старец, описываемый в книге, на вопрос, почему деревня страшится помещика, отвечал:
— Да, так-то батюшка! Страшен, что как задумаешь про него, так волосы дыбом становятся. Десять лет как мы ему достались в руки, десять лет он гнет нас страшными налогами, десять лет сосет кровь нашу. Работаем день и ночь — и все на него. Он же последний кусок ото рта отнимает у нас.
Путешественник встречает крестьян, закованных в железо: помещик Н. — кутила и картежник — продал их на фабрику.
С любовью рисуя образы простых людей, автор не жалеет сатирических красок для изображения крепостников, из-за которых народ терпит невыносимые страдания: непосильные поборы, рекрутчину, браки по барской прихоти.
Страшным обвинением крепостничеству звучит крестьянская речь, записанная в дневнике. Вот доподлинные олова деревенского старика:
— Жена недавно померла с печали. Да, вечная ей память! Теперь умирать же бы… А и похоронить-то нечем. Я остаюсь без всякого призрения — с одной нищетой, бессилием и тоскою. Не только что работать, и по миру-то ходить мочи нет. Ах! Если бы господь услышал бы молитву мою да прибрал меня поскорее!
Перед нами целая галерея помещиков. Мы видим истязателей и насильников, мошенников, шулеров и сплетников.
Чего стоит образ владельца 700 душ крепостных, который в скупости дошел до того, что «с себя самого за каждый обед и ужин берет по известному количеству денег… Кладет их в особенный сундук и по прошествии года, сверив приход с расходом, полученный барыш берет себе в заем по пятнадцати процентов». Когда скупец угостил путешественника бражкой, автор заметил: «Взяв стакан, я прихлебнул, поморщился и принужден был сказать, что я совсем не пью пива. „Этот стакан вылить на бешеную собаку, и та облезет“, — сказал я сам себе».
Читая «Путешествия критики», невольно вспоминается Гоголь и образы «Мертвых душ»: Плюшкин, Коробочка, Собакевич…
Обращаясь к лучшим людям России, автор «Путешествия критики» призывает их с ненавистью разоблачать помещиков-крепостников, стать на защиту крестьян: «Как приятно слушать прямого сына России, когда он с твердым, решительным русским духом, без лести и прикрас говорит русскую правду!»
Трудно назвать в литературе XIX века другие путевые записки, которые по пафосу обличения крепостничества так близко стояли бы с радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву».
Читая записки владимирского учителя, думаешь о том, что горькое обличение, прозвучавшее со страниц «Путешествия критики», и было настоящей русской правдою.

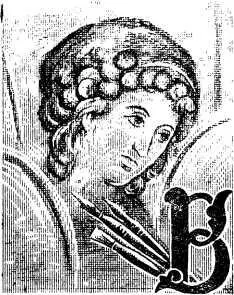 ЛЕСКОВСКОМ «Запечатленном ангеле» есть место, где герой спорит с англичанином о древнерусской живописи. Речь шла о том, как восстановить испорченную икону. В ответ на сетования, что трудно найти настоящих реставраторов, англичанин возразил:
ЛЕСКОВСКОМ «Запечатленном ангеле» есть место, где герой спорит с англичанином о древнерусской живописи. Речь шла о том, как восстановить испорченную икону. В ответ на сетования, что трудно найти настоящих реставраторов, англичанин возразил:
— Пустяки, я сам художника из города привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.
Читать дальше
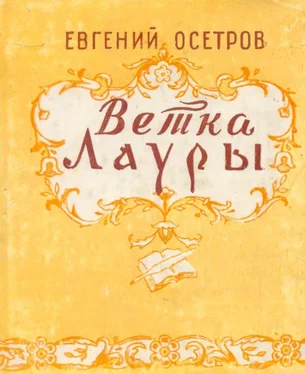

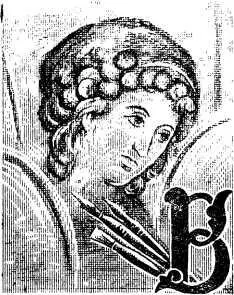 ЛЕСКОВСКОМ «Запечатленном ангеле» есть место, где герой спорит с англичанином о древнерусской живописи. Речь шла о том, как восстановить испорченную икону. В ответ на сетования, что трудно найти настоящих реставраторов, англичанин возразил:
ЛЕСКОВСКОМ «Запечатленном ангеле» есть место, где герой спорит с англичанином о древнерусской живописи. Речь шла о том, как восстановить испорченную икону. В ответ на сетования, что трудно найти настоящих реставраторов, англичанин возразил: