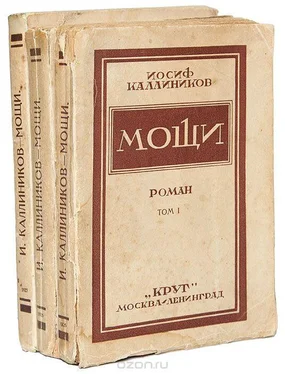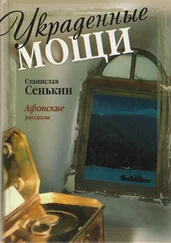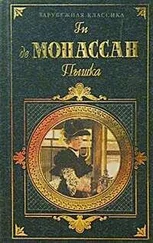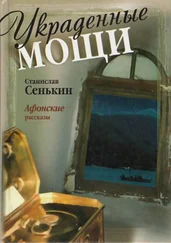А кто-то спросил из землячек:
— Это что муж задушил старый из ревности к буфетчику или сидельцу трактирному?..
И еще больше заволновалась Феничка, и еще торопливей рассказ фантазировала, и еще больше от этого испугалась:
— Он, он задушил, мне тоже так кажется… Так вот, я с нею стою, болтаю, а он сзади меня хвать, обернулась, — рыжие волосы, брови рыжие и нос проломленный, прямо ужас какой-то, как маска страшная, и хохочет в лицо, — новенькая говорит, да еще без маски, какой деревни? — я от него к Марье Карповне, а он и давай нас обеих руками обхватывать, — не уйдете, говорит, раскрасавицы вы мои… Марья Карповна говорит: «Оставьте, Калябин, довольно вам…»
И опять даже вскликнула…
— Так это сам Калябин?.. Что ж ты, Феня, раньше мне не сказала, — я бы хоть рассмотрел получше.
И сразу Феничка замолчала, оборвала свою фантазию и еще больше придвинулась к Петровскому в полумраке синеватом, — плацкартный пассажир на верхней полке фонарь задернул.
Феничка не докончила, и другие никто не спросил больше — по вагону разошлись укладываться, только остались вдвоем Петровский с Феничкой. Никодим чувствовал, что встревожена Феничка, только не знал чем, отчего, хоть и правдоподобна была история с ряжеными, а что-то в ней фальшивило и тоже, припоминая, сидел, где он мог видеть его, и сказал вслух:
— Где я его видел?.. Отлично помню, что видел, а где?..
Все еще взволнованно, хотя и полушепотом, сказала Феничка:
— Прошлой весною, помнишь, приходил к нам, — мы стояли в передней после урока.
И опять замолчали…
Под стук равномерный, в тишине сонной, и полудреме, плечом к плечу, как за крепкой стеной подле Петровского, точно он защищал ее от Калябина, сидела Феничка, постепенно и об Афоньке уплыли мысли, и только осталось чувство, что одна теперь, и даже какая-то беспомощность разлилась в душе, отчего еще крепче к плечу прилегла Никодима. И он сидел молча, не двигаясь, чувствуя плечом через косоворотку тепло баюкающее.
Давно, еще когда две косы на одной ленте широкой носила, и тогда подле дома вздыхал, дожидался — не выйдет ли, за два переулка, почуя, из гимназии шла, узнавал по походке и бежал навстречу, а потом — понять не мог отчего! — съездила прокатиться с дядею в Питер, и переменилась вся, — та, да не та: и застенчива будто, а нет-нет, да и сверкнет глазами и смех заиграет разливчатый и глаза стали не те — наивность исчезла девичья и не то тоска, не то бесшабашность отчаянья блеснет заманчивая, и походка — не семенящая горошком дробком, а вольнее — в коленях с подкидцем, резкая; и о любви заговорила, как о будничном, посмеивалась над влюбленными. А как начал ходить уроки давать, учить писать сочинения и с литературных тем на личное перекладывал, — даже показалась шаблонною, оттого и показалась, что ни в какие идеалы не хотела верить. Уже в то время Петровский (в последнем классе учительского института был) народником и революционером себя считал, и фуражку одел студенческую, после аттестата зрелости, и вошел в партию. После этого еще обыденней Феничка ему показалась, и гулял иной раз с нею летом, и на студенческом вечере на рождестве у колонны просидел в дворянском собрании весь концерт, — все еще найти в ней хотел что-то, и не нашел, а только еще не умершее к ней сентиментальное чувство ребячье привязывало любопытством. А теперь вот задумался, когда в правдивом рассказе про ряженых чутьем уловил и больное, и жуткое. Когда ходил репетитором — не мог понять, — не то влюблена в него, не то играет только, отталкивая и дразня, а теперь — сразу почувствовал, что не влюблена, а любит, и не отталкивает, а прячется, и самому захотелось заглянуть поглубже — отчего человек от какой-то встречи, не то чтобы содрогнулся, а растерялся неприлично. И, не отодвигаясь, тихим и ровным голосом спросил:
— Почему на вас, Феня, так повлияла встреча с этим… Калябиным?.. Почему?..
Не ответила сразу, а сперва жуткая мысль про Николку мелькнула, точно боялась, что в тишине заставит ласкою, может всего одним поцелуем, душу раскрыть и опять надорвать ее отчаянием, оттого, что самое страшное рассказать страшно, сил не хватит любовь пережить к Петровскому и может потерять ее навсегда, и замкнулась в себя, и опять заиграл смех дразнящий и не отодвинулась, а только ближе стала в глаза заглядывать, точно сказать хотела: «Зачем тебе прошлое? — вот она я, теперь вольная, одна, без матери, люблю и свободна, в Питер едем…», опять, как утром вчера, те же мысли витали.
Читать дальше