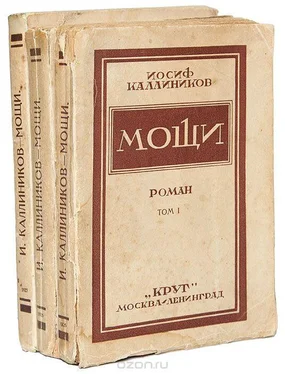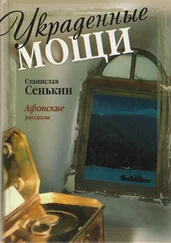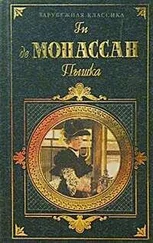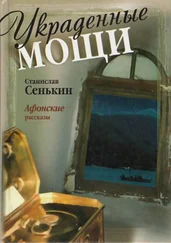Из-под белой косынки выбился завиток и упал на лоб, повиснув над глазами — мохнатыми, горячими и самоотверженными.
Увидел ее и — стыд смятенный.
Откуда-то голос монаха черного:
— Лежи! Идите, сестра.
Была только мысль, — спасти, к жизни вернуть, — ею горели глаза и не видели ни Евтихия, ни Бориса, — жизнь за жизнь, может быть, даже о брате не думала так, как об иноке.
Поликарп помогал одеваться, затопил печку, велел принести вина и чаю.
Ночью стучали во сне зубы, не мог согреться, кутался и до утра, одна только мысль — стыд и отчаяние, потом заснул и во сне метался, бредил, приходил в себя и снова томил жар. Издалека всплыло бредом прошлое, дремавшее где-то в мозгу, кольнув остриями:
— Сына привести: сына… она приведет… к волхву мудрому! Не побивайте камнями душу грешную… причастницу… умерла она, умерла!..
Поликарп слушал и взглядывал на Зину, позвал се сам к больному.
Прожег глубину взглядом, спросил девушку:
— Кто это? Вы?
Не поняла вопроса, переспросила шепотом:
— Кем он бредит?..
Точно камень занес над душою, шепотом содрогнулась, сложив умоляюще руки.
— Не я, не я… у меня жених… Сами спросите его! Он скажет потом. Надо спасти, спасти надо.
— Позовите доктора! Жизнь берегите его.
Лежал в келии; несколько дней в забытьи, — лицо обтянулось, глаза стали громадными — прозрачный лежал, беспомощный. Днем приходил Поликарп, сменяла Зина. Почти не спала — от брата шла к иноку, оставляя в палате сестру Карчевскую. Успокоилась, когда сказали, что Владимиру не нужно будет отнимать ноги, и посвятила себя больному Евтихию.
Очнулся после долгого бреда, пошевелил пересмяклыми запекшимися губами, — подняла голову, напоила — жизнью глаза блеснули, еще в полусне спросил:
— Это вы, Феня?!
И снова полузакрылись глаза, — долгий и крепкий сон к жизни. Утром узнал Поликарпа, протянул руку…
— Учитель…
Благословил его, не давая поцеловать руки.
— Жизнь для тебя, и ты для жизни!
На скотный двор со списком пришла Карчевская.
— Сестрица, милая, скажите, правда, что у сестры Зины несчастье случилось?
— У Белопольской?! Брата привезли раненого, чуть в лесу не замерз… Владимира.
Ноги ослабли, спросила шепотом:
— Белопольская? Она — Белопольская?! Так это брат их?..
— А вы разве не знали?..
И снова поющим голосом, точно не ее коснулось:
— Вас тут много, сестрица, все вы беленькие, одна на другую похожи, — знаю, что по хозяйству Зиночка, а фамилии — каждой я говорю — сестрица…
Каждый день на огне, — спросить бы, узнать, один раз взглянуть на него и ночи без сна, — ребенок — мука, и шалости его и смех и улыбка — Николенькины, — не смотрела бы. Старуха Арефия упрекает Аришу:
— Ты бы смотрела за ним… Совсем бросила!.. Младенец-то ведь невинный.
— А он разве смотрит?! Придет когда?..
— Он — игумен, монах… Прельстила его сатанинским образом…
— Мука моя… мучище!..
— Сама виновата, сама…
Заохает старуха, уйдет и мальчика к себе уведет в келию.
Весенняя ростепель белые шапки посбила с сосен, на солнце ручьи, проталины и мох курчавый крошится. С утра туманы, а к полдню подымутся облака из лесу белыми стаями. Солнце землю томит испариной, золотит сосну, смолой дышит.
На порожки гостиниц выползают костыли, облепляют шинели серые, и в скуфейке монах греется и звон по умершим для живых песнею. На скамейках, у стены, погоны блестят офицерские — плавят золотом сердце сестры Карчевской и подруг ее.
Вывели на солнце Евтихия, и черный монах пришел.
А к вечеру в лазарете дышится веселей и без старшей сестры в офицерскй палате из-под косынок кудряшки задорные, — белокурые, подле Владимира, а может быть, еще и жених Зосе?!
Евтихий беспомощно шепчет учителю в келии:
— Возьмите меня в свою келию…
— От жизни бежишь?
— Господь меня покарал!
— Пусть тебе указует!
— Хочу подвига!.. Молитвы хочу… покаяться…
— Без земного врача не исцелит небесный! И не примет подвига. Выздоравливай!
По вечерам приходила Зина — наведать, молчал покорно.
Снова ходила на скотный к Арише.
Скотница похудела, веснушки у глаз — сияние из темноты и рыжее золото под платком — лучи солнечные.
Зазвала в келию к себе и заплакала.
— Ариша, что с вами?
— Несчастье у вас, сестрица, — я слышала, знаю… Привезли раненого.
— Чего же вы плачете?
— Полюбила я вас, Зиночка, как родную, мне ваше горе больней своего, и он-то мне ближе родного, лучше б я за него мучилась…
Читать дальше