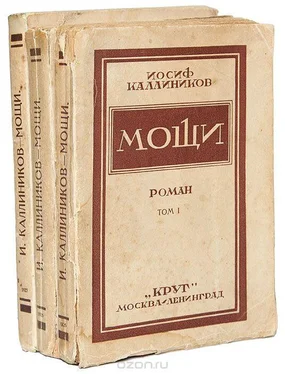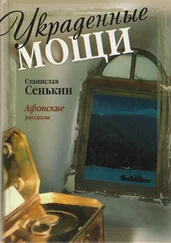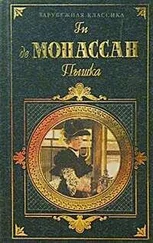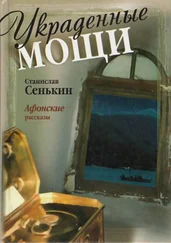Полковник перебил игумена, обращаясь к Поликарпу:
— Может быть, монастырь возьмется и хлеб печь для раненых и персонала?
— И хлеб и варку пищи. При монастыре живут беженцы — многие женщины сиделками могут быть…
И, осматривая гостиницы, Поликарп вместе с комиссией распределял уже помещения для госпиталя и персонала, Гервасий ходил за ним молча, поддакивая и соглашаясь с каждым словом его, думая, что опять черный монах будет в монастыре хозяином.
А когда вечером Поликарп вызвал к себе Гервасия — говорил ему:
— Труд спасет иноков от искушения, а если и согрешит кто — трудом искупит.
— Вы сами знаете, — доходов нет у монастыря и дела нет и мы должны трудиться. Помощников я найду. С хутора все хозяйство переведите к монастырю на скотный двор. Мать Арефия стара для хозяйства. Для раненых потребуются молочные продукты, монастырь их будет продавать лазарету. Учет будет вести хуторская хозяйка.
Николка вздрогнул, но Поликарп не упомянул имя Ариши и кончил:
— Лошадей будет казна кормить; хлебный припек должен получить монастырь за труды — половина братии будет сыта. Призывных послушников монастырь сохранит у себя, как санитаров, — но они, по желанию, могут теперь же принять рясофор.
Николка вышел от Поликарпа молча, подумал только: «Сатана, истинный сатана, прости господи, обвел вокруг пальца эту комиссию, — хозяин не я тут, а он».
А послушник Борис, закрыв за игуменом дверь, вошел к Поликарпу и земно ему поклонился.
— Что ты?
— Благословите принять рясофор.
Поликарп посмотрел долго и внимательно на Бориса и сказал каким-то глубоким, особенным голосом:
— Только помни всегда — ты для жизни и жизнь для тебя!
Потом встал и обычным суровым голосом кончил:
— Принимай, — будешь моим помощником.
И со следующего дня потянулись послушники за благословением в рясофор не к игумену, а к монаху ученому, но он каждого посылал к Гервасию:
— Игумен благословлять должен, ступай к игумену.
На всю жизнь запомнился Борису день рясофора, когда его — в белой длинной рубахе, с расчесанными волосами, омытого банею водною и чистотой — окружили черными крыльями смерти мантии рясофорных монахов и повели его к алтарю с пением о непорочности и об отречении от земли и от жизни, шепчущего восторженно:
— Иду к тебе, навсегда иду!
Имя произнести боялся, но чувствовал его дыханием, мыслью и каждым мускулом.
Из белой комнаты — по-монашески: белые стены монастырские и заунывный колокол панихидный протяжно по лесу, через лес к станции, к городу, к заводам дымящимся — перекличкою орудийных выстрелов с полигона от арсенала, что еще при Петре на Десне заложен, и каждый день в сосновом гробу искалеченный, изрезанный труп солдата на монастырское кладбище у ограды скитской. И черные, как мертвецы, монахи, протяжно под колокол, — вечная память, вечная память. Сырая земля в могилу комьями, гулко и мерно с лопат монашеских и могилы рядами — на смотр небесный.
Белая комната, белый стол, железная кровать и корзина с вещами и все чужое и сама девушка, как чужая, в белой косынке — мохнатые глаза еще больше и ярче, углубленнее и сосредоточеннее.
С раннего утра голос старшей сестры:
— Сестра Белопольская, выпишите слабым молока!
С записной книжкой из палаты в палату в переделанной под лазарет новой гостинице и на скотный двор к матушке Арише.
Певучим голосом встречала Зину:
— Здравствуйте, сестрица, милая…
В нижнем этаже, где в номерах врачи, сестры — около самоварной белая келья Бориса-Евтихия, около постели телефон со станции и в полночь, на заре утром, — «подайте лошадей, эшелон раненых».
Евтихий бежал на конный двор, торопил монахов и вместе с послушниками и санитарами, с дежурным врачом — принимать раненых. Помогал выносить из вагонов, заставлял в погожие дни на носилках нести через лес в госпиталь, вечером приходила в келию сестра Белопольская с записной книжкою — хлеба на тысячу пятьсот человек, слабым — просфоры, на кухню расчет.
Не поднимая глаз на сестру, заносил в ведомость, а мохнатые глаза девушки вглядывались в Евтихия, вспоминая Бориса-послушника, и не выдержала сестра, спросила:
— Вы Смолянинов Борис, — я помню вас…
Монах вздрагивал, — пощечина Барманского оживала и его слезы и слезы девушки.
Не отвечал, еще ниже склоняя голову.
Неожиданно появлялся черный монах, сухой, пронизывающий обоих взглядом, от которого они вздрагивали, как пойманные. Зина вставала быстро и собиралась уходить. Поликарп говорил:
Читать дальше