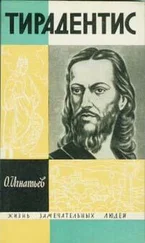За окном бушевал ветер, на душе было скверно, хмурые мысли сбивались и путались. Он чувствовал, что оставаться в Константинополе более не может. Будет проситься в отставку. «Местом я не дорожу», — уговаривал он сам себя и, чем больше уговаривал, тем больше понимал, что оставлять службу он просто не имеет права. Ведь он уже так много сделал для поднятия престижа русского посольства! Так хорошо продвинулся в реализации своей дипломатической программы! Оттого, наверное, и обидно, что в Министерстве этого не замечают, продолжают злословить в его адрес и обзывают «чародеем». Нет, мерзостей он не потерпит! Пусть другого дурака поищут. Лучше в Сибири голодать, чем здесь клеветой объедаться.
Игнатьев встал из-за стола и принялся кружить по кабинету. За окном было темно, на душе скверно. Его мучили вопросы, каждый из которых требовал предельной честности перед собой. Зачем он внушил себе мысль, что сумеет сделать то, чего другие не сумеют, продумывая каждый шаг на своём новом поприще? Зачем решительно вообразил, что ему достанет сил исправить зло, причинённое России европейскими державами, суть лютыми её врагами, на чужой земле, в базарно-толкучем Стамбуле? Выходит, он такой же глупец и жалкий себялюбец, как и все те, кто окружает Горчакова ?! А если учесть то, что он, ко всему прочему, обрёк жену, да и себя самого, на скучную затворническую жизнь в четырёх стенах, на борьбу с гнетущей меланхолией, причиной которой, во многом стала оторванность от Родины, то картина получается грустнейшая! Бросить директорство и удалиться на чужбину только затем, чтоб биться с ветряными мельницами и тосковать по России, что же здесь, простите, дельного? Так рассуждают сейчас многие из его бывших сослуживцев. Но, в основном, так полагают те, для которых русский посол — тот же рыжий на ковре, цирковой клоун и не более, даже, если всё внимание приковано к нему, к тому, что он сказал и сделал.
«Нет, — размышлял Николай Павлович, изредка останавливаясь напротив окна и наблюдая ненастное небо, — чтобы не смеяться над самим собой и не давать недругам повода упоминать своё имя с презрением, мне надо крепиться, продолжать трудное дело, поднимать значение России на Востоке, не смотря на лицемерие коллег и душевную распутицу».
Думая так, он прекрасно сознавал: если он поддастся сиюминутной слабости, попросится в отставку, отрешится от служения Отечеству, на верность которому он присягал точно так же, как и на верность царю, тогда грош ему цена в базарный день! Останется лишь горько посмеяться над собой и своим ничтожным самомнением!
Уязвлённый ложью и наветами, теряющий веру в то, что его служебное усердие и рвение по достоинству будут оценены начальством, и оттого стремящийся в деревню, на покой, в глубине души Игнатьев понимал, что все его обиды, мрачные мысли, и непонятно откуда берущееся чувство бессилия, лучше всего объяснялись пресловутой ностальгией — тоской по оставленной Родине. Стоило ему подумать о России, как перед глазами сразу возникали виды Петербурга или отцовский дом в селе Чертолино, больше похожий на русскую избу с резьбой, террасами и ставнями, нежели на барскую усадьбу. Перед фасадом дома росли могучие дубы, а роскошная клумба ежегодно радовала взор чудесным изобилием цветов. По весне её засаживали душистым табаком и ночною фиалкой. И куст жасмина зацветал, и яблони, и вишни, и сирень — лилово-дымная, благоуханная. А по задворкам тянулись луга, заросшие кашкой и клевером. Там, в лугах, струилась речка Свижка и, хотя через неё был переброшен мост из крупных брёвен, устланный хорошо пригнанными друг к другу досками, многие крестьяне переезжали её вброд, благо берега были пологими, а дно — каменисто-песчаным, да и воды в прогретом солнцем русле было едва ли по ступицу. Перила моста были когда-то выкрашены масляной краской небесно-голубого цвета, но с годами краска выгорела, приобрела цвет полыни — пепельно-сизой от зноя. Просёлочная пыль казалась белой от полуденного света, а тень от проезжавшей колымаги была такой же прозрачно-лиловой, как редкие цветочки вдоль дороги.
Вот он и рвался в деревню, в своё радостно-вольное, исполненное счастья прошлое, объясняя своё желание удалиться на покой тем, что он, де, семьянином стал; стареть стал, видно. Разумеется, лукавил. Ему исполнилось сорок два года — самое время для подвигов; ни о какой старости речи идти не могло. Но лучшим доказательством того, что усилия Игнатьева не прошли даром, явилось то, что для турок он стал «Игнат-пашой», а в европейской прессе его всё чаще называли «вице-султаном», намекая на его исключительное положение при дворе Абдул-Азиса. Да и армяне свой секретный Протокол не спешили обнародовать. На его поиски полковник Зелёный снарядил лучших своих агентов, по большей части нелегальных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу