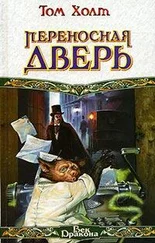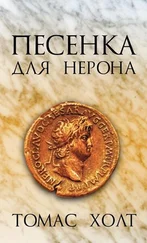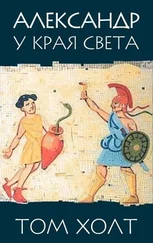Например, обычно, укладываясь спать, я не считал овец и не перечислял города по алфавиту, как делают прочие — я сочинял речи и хоры. Работая в поле, я защищался от скуки, штурмуя анапесты. И даже просто идя по улице, я шагал в ритме ямба, громко притопывая правой на спондей и отмечая цезуру, на мгновение замирая. Мне было сложно упорядочить жизнь, не имея пьесы в производстве. В нормальных условиях, видите ли, жизнь — это битва за право выкроить несколько спокойных часов серьезной работы из окружавших меня со всех сторон безжизненных пустошей бессмысленных хлопот; не сочиняя пьес, было невозможно избежать участия во множестве бесцельных занятий, которые другие представители моего вида почему-то считают необходимыми. Должно быть, подобные проблемы возникают у политиков после изгнания, а у кузнецов и пиратов — в старости.
Но некоторое время я был совершенно счастлив не писать; в сущности, я бы с превеликим удовольствием не делал ничего вообще — а все, кто знают меня, воспримут подобное заявление как абсурдное. Я из тех, кто способен выполнять любую работу сколь угодно долго — пока эта работа не начинает ощущаться таковой. Всякая обязаловка вызывает во мне такое чувство, будто на мне свинцовые сапоги. Но некоторое время после суда я вообще ничего не делал, пока Федру не начало тошнить от одного вида меня, сидящего в кресле, и она не приказала мне убраться прочь и написать что-нибудь. Но писать было нечего, а писать, когда писать нечего, ничуть не проще, чем болеть, будучи здоровым. Я пришел к заключению, что в Афинах нет для меня места, и потому через четыре месяца после суда мы с Федрой уехали в Паллену. Там, сказал я ей, для человека с руками и ногами всегда найдется какое-нибудь дело, и как только мы окажемся в Паллене, я сразу приду в себя.
Я ошибался. Как выяснилось, в Паллене было нечего делать в еще большей степени. Выйдя на работу в поле, я тут же облокачивался на мотыгу и любовался видами холмов, пока мой управляющий не просил вежливо убраться, ибо я подаю плохой пример рабам. Если я пытался пасти коз, все заканчивалось еще хуже — всякий раз приходилось посылать людей на поиски, пока коз не переловил и не переклеймил какой-нибудь беспринципный сосед. Был один ужасный случай, помню, когда мне доверили груз фиг с указанием доставить их на рынок и продать. Я почти доехал до равнины, когда сломалась ось, амфоры побились, фиги разлетелись во все стороны — а я, вместо того, чтобы кинуться собирать их, страшно ругаясь, сидел себе на козлах и думал, как же забавно получилось, пока кто-то не подъехал сзади и не принялся орать, что я загородил дорогу и почему бы мне не убраться поскорее. В конце концов я все собрал и починил ось, но было уже слишком поздно ехать на рынок и я вернулся домой к величайшему изумлению всех домашних.
Только одно мое занятие в те дни можно назвать конструктивным — я стал проводить немного больше времени с сыном. Само по себе такое считается предосудительным — не дело отца вмешиваться в воспитание ребенка до тех пор, пока он не войдет в тот возраст, в каком отцовское влияние приобретает ценность. Но окружающие решили, что с учетом моего состояния выйдет гораздо меньше вреда хозяйству, если позволить мне удаляться с сыном в холмы и сидеть там, глядя, как он ковыляет вокруг. Я сказал, что занятие было конструктивным и полезным — я не имел в виду, что оно приносило пользу мальчику, который, наверное, и не знал, кто я такой. Но я им наслаждался. До этого я не особенно интересовался детьми; мне считал, что общение с кем-то, кто не способен высказаться по вопросам комедиографии — пустая трата времени. Но ничто так не помогает придать жизни перспективу, как общение с лепечущим малышом. Понимаете, ребенок все воспринимает непосредственно — любое неудобство для него невыносимо, сиюминутные желания — всеобъемлющи, а самое отдаленное будущее, которое он способен представить — это закат. Я же пытался разобраться, чего я вообще хочу от жизни — хотя тогда я этого не осознавал — и этот необычный взгляд на время оказался полезным в сравнении. Способ измерения времени зависит от того, что вы делаете и кто вы есть. Ребенок измеряет время в днях. Земледелец делит его на трехлетние отрезки — за год урожай созревает и два года хранится в амбаре. Безземельные наемные работники и комедиографы разбивают его на годы: для одних вопрос заключается в том, где в этом году найти работу, для других — что представить на фестивалях этого года. Этот последний подход чуть совершеннее взгляда ребенка, но не позволяет обеспечить стабильность. Другая точка зрения на вещи, от которой я все никак не мог избавиться, присуща людям, приготовившимся к неминуемой смерти и внезапно обнаружившим себя в живых — они живут минутами или даже секундами.
Читать дальше