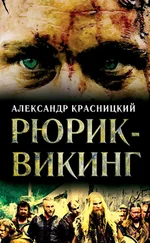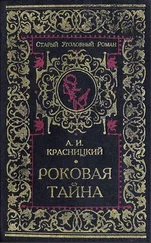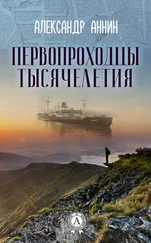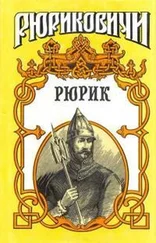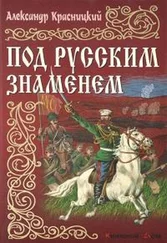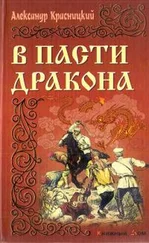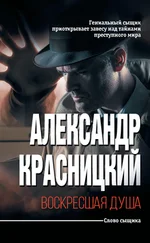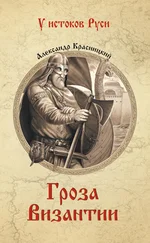Пристав к ильменским варягам, Святогор всё-таки не прервал связи с Гостомыслом, воспитывавшим его братьев. Изредка он бывал в Новгороде, беседовал с дядей, искренне любившим его, но всё-таки, даже в пылу важных бесед, так и тянуло его на берег Варяжки, к вольным, как птицы, товарищам...
Только вот сам он не был так волен, как птицы.
Ватага за ватагой молодцов уходили по Волхову за Нево, в суровую Скандинавию, где многих из них ожидала жизнь полная приключений, славная смерть в бою, и никак уходившие не могли сманить с собой Святогора.
Любовь незримыми, но прочными цепями приковала молодца к берегам ильменским.
Любить и знать, что любим, — это счастье. И Святогор был полон сознанием своего счастья.
Об этой любви никто не знал. Влюблённые тщательно скрывали свои чувства от других. Знал Святогор, что не отдаст ему Володислав Любушу, но верил, что счастливый случай однажды соединит его с любимой навеки...
И теперь, расставшись с милой, он снова переживал всю сладость тайного свидания. Он даже принял решение посоветоваться на этот счёт с Гостомыслом и быстро гнал челнок, желая попасть к дяде до заката солнца.
Белой плачет кровью
О былых делах.
Грубер
 стье речки близко.
стье речки близко.
Святогор быстро вогнал свой чёлн в устье и очутился на Волхове.
Глазам его представилась хотя и привычная, но, тем не менее, всё-таки чудная картина.
Направо, высоко на холме [8] Сохранился и до настоящего времени. На нём теперь Перынский скит.
, виднелась гигантская фигура громовержца Перуна [9] Славяне всегда ставили своих кумиров на высоких холмах. Это соблюдалось особенно в отношении главного из славянских богов — Перуна.
, за которым раскинулся непроходимый дремучий бор, куда никто из местных жителей не смел войти.
У русских славян не было заповедных рощ, дубрав в узком смысле этого слова. Входя в сношения с имевшими такие места германскими племенами, славяне, поклонявшиеся между прочими богами и рекам, не переняли этого верования. Только кое-где жрецы, заинтересованные, как и жрецы других народов древности, в строгом сохранении своих тайн, объявляли запретными дубравы, окружавшие холмы, где возвышались главные идолы. Никто под страхом смерти без разрешения или призыва жрецов не смел входить туда, а если кто попадал случайно, того жрецы, в устрашение другим, убивали их на месте.
Именно такой обширный бор был вокруг Перунова холма.
Далее за ним видна была позолоченная солнечными лучами даль Ильменя, спокойного в этот погожий день.
Прямо против речки, на острове, образуемом истоком Волхова и. притоком Волховца, чернели мрачные остатки разрушенного «старого города».
В то время славянские города были не чем иным, как множеством построенных близко одна к другой и огороженных частоколами хижин. В каждом городе была более или менее обширная площадь для собраний и жертвоприношений. Улиц в том смысле, как это понимается теперь, конечно, не было. Хижины, или избы, строились как попало, — для общественных жертвоприношений как раз в середине города устраивалось особое возвышение, или курган. Это было как бы ядром города и потому называлось «городищем». Когда по какому-либо случаю требовалось собрать в город народ из ближайших селений — на самом высоком пункте городища зажигали огни.
Следы такого городища, или, вернее, предания о нём, существуют и теперь на островке при истоке Волхова из Ильменя. Там, может быть, и стоял древний Новгород до перенесения его на левый берег Волхова. Как и многие такие поселения, он назывался просто «городом». Само название «Новый город» доказывает, что когда-то был и другой, старый, затем покинутый, город. А норманны, часто проходившие по Волхову в Ильмень, Новгород называли Гольмгардт, то есть Город на острове, тогда как вся Русь называлась у них Остергардт, то есть Восточный город.
Как бы то ни было, а и тогда уже от старого города оставался только курган да груды камней и перегнивших брёвен.
Вниз по течению Волхова, верстах в трёх от его истока, раскинулся на левом берегу Новый город, среди изб которого и тогда уже видны были крепкие стены детинца.
Новгород строился по общему плану тогдашних городов. Место было выбрано основателями как нельзя лучше: высокий холм, господствовавший над обоими берегами, как бы самой природой указывал, где должен был подняться «отец городов русских».
Читать дальше
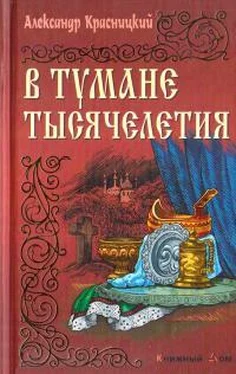
 стье речки близко.
стье речки близко.