Памяти отца и матери посвящается эта книга
Девятнадцатого марта 1862 года я — Михаил Наленч, Варфоломеев сын, приказом его величества государя императора Александра Николаевича, самодержца всероссийского и царя польского, уволен от военной службы в чине майора, с мундиром и пенсионом полного жалованья по триста пятнадцать рублей серебром в год. Уволен я по собственному прошению, а прошение подал из-за болезни, в возрасте пятидесяти лет. Сейчас мне пятьдесят один.
Болезней у меня много. В сырую погоду ноют все кости, в жару я с трудом дышу, в гору поднимаюсь с отдыхами через каждые двадцать шагов, носить тяжести мне запрещено. Имею тринадцать огнестрельных и восемь колотых ран, о которых нигде в документах о моей личности не упоминается, и единственным их свидетельством служат шрамы и рубцы, рассеянные по телу. И все же с виду я не похож на инвалида и осанку имею бравую. Ростом я высок, волосы у меня с сильной проседью, но лицо еще не похоже на печеное яблоко. Слабовато у меня зрение, и вот уже тринадцать лет, как по разрешению главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом, ныне армией, я ношу очки. Но самая главная моя болезнь в том, что я поляк и родом из Польши. И хотя я прослужил в Кавказском корпусе тридцать лет верой и правдой и товарищи, ближнее начальство и солдаты относятся ко мне хорошо, приехавший недавно из Санкт-Петербурга военный ревизор крепко меня обидел.
Он присутствовал на занятиях моих с новоприбывшими солдатами. Все они оказались поляками. Ничего удивительного! Их присылают к нам сотнями. В Польше опять начались аресты и следствия. Я должен был спрашивать у солдат молитвы, и они хорошо отвечали, только вместо «Отче наш» они говорили по-своему: «Ойче». Что в этом дурного? Но ревизор несколько раз их поправлял, а после занятия он в присутствии господ офицеров, сказал мне с кривой усмешкой:
— Что же вы, господин майор, у себя польскую шайку собрали?
Гром небесный не поразил бы меня так, как эти слова. Я выхватил шашку и бросился на подлеца ревизора. Офицеры схватили меня и обезоружили. Я задыхался. Ревизора унесли в госпиталь: я поранил ему шею.
Жаль, что не убил! Когда я это все вспоминаю, у меня по-прежнему дрожат руки и замирает сердце. Потом был суд чести. Присутствовало и наше и высшее — тифлисское — начальство. И не было ни одного человека из наших, кто сказал бы слово против меня. Наоборот, каждый объяснил, что господин ревизор при исполнении служебных обязанностей оскорбил меня как старого российского офицера и как поляка. Меня оправдали, но я видел, что это было противно высшему начальству. Потом со мной говорили отдельно, и после этого разговора я понял, что больше не нужен. И вот я подал в отставку «по болезни». Что же! Я найду себе дело и дома. Жена даже рада, что теперь я живу спокойно.
Я поляк и родом из Польши. С шестнадцати лет я был зачислен в Войско Польское, а кончил военную службу российским офицером. Но я не изменял своей Отчизне, а в том, что со мной случилось, виновен совершенно, как, скажем, виновна капля вислянской воды в том, что однажды она от неимоверной жары превратилась в пар, а потом замерзла и упала снежинкой к подножию Казбека, где ей суждено полежать и растаять.
Шесть лет назад всем ссыльным и разжалованным было объявлено прощение, и я помышлял вернуться на родину. «Не запрещается ведь снежинкам падать в родную Вислу и таять в ней», — думал я. Но не сразу мне удалось туда съездить, а только в прошлом году. И я увидел, что в Польше повторяется то же, что было тридцать лет назад, а я для этих повторений уже не гожусь. Не потому не гожусь, что весь прострелен и исколот, а потому, что теперь я не смог бы воевать с русскими, хотя и по-прежнему люблю поляков. И те и другие крепко срослись в моем сердце.
Я хочу, чтобы дети мои жили спокойно, и рад, что мой первенец так еще мал, что его никто не заставит идти убивать поляков, если опять, не дай боже, вспыхнет война. А она наверное вспыхнет. Я так ясно слышал ее запах в Варшаве прошлой осенью!.. Даст бог, к тому времени, когда мой Василек подрастет, поляки и русские перестанут драться. Я мечтаю о большем — чтобы люди перестали воевать вообще. Но пока я об этом слышу только в церквах, когда молятся о мире всего мира. Молятся и ничего не делают, чтобы наступил такой мир, и даже, наоборот, стараются по всякому поводу перекусить друг другу гордо!
Я купил на свои сбережения домик на Червленной улице во Владикавказе и вот уже два года как в нем живу. Владикавказ, кстати, только в 1859 году приказали называть городом. Теперь он самый большой в Терской области, а сорок девять лет назад здесь был осетинский аул. Но, как и везде на Кавказе, войны перестроили все. На месте аула возвели укрепление с обыкновенным земляным валом, а лет пять назад это укрепление превратили в настоящую долговременную крепость с каменными стенами.
Читать дальше

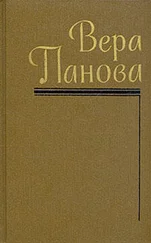

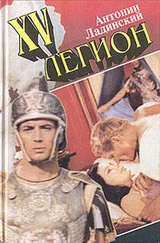


![Лариса Корженевская - Я, Мишка и «маятник скорости». Фантастический рассказ [litres самиздат]](/books/437513/larisa-korzhenevskaya-ya-mishka-i-mayatnik-skorosti-thumb.webp)





