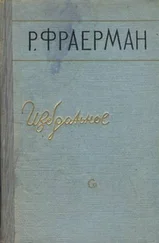— Что, кроме вреда, — спрашивал он, — может принести бессмысленная расправа с японцами? Кто дал распоряжение расстреливать всех без разбора? Кто такой Возницын и его помощники, которые орудуют в городе? Уголовники!
В зале задвигали скамейками. Кто-то крикнул: «Верно!» Но в дверях, гремя прикладами, гудели в кулаки.
— Почему, — продолжал Селезнев, — Возницын не хочет держать связь с общим партизанским командованием? Я и Рощин, как представители этого командования, приехали, чтобы объединить все партизанские силы. Возницын не имеет никаких полномочий ни от большевистского центра, ни от командования. Он самовольничает. Ему наплевать на большевистскую партию и на Москву.
— Да, наплевать! — кричала Гусева, подруга Возницына, вскакивая со скамьи и скрипя своей кожаной одеждой. — Во Владивостоке ваши большевики-соглашатели с японцами сговариваются, а вы пользуетесь, что Возницын лежит раненый! Где ваши раны?
Селезнев ее не слушал. В дверях все еще продолжали греметь прикладами и гудеть в кулаки.
Гриша ушел за сцену, в комнату, заставленную пюпитрами. Но и здесь были слышны крики. Неожиданно в комнату заглянул Селезнев. Он по-детски, ладонью снизу вверх, вытер нос и улыбнулся Грише.
— Что же это будет? — тревожно спросил Гриша.
— Ералаш! Анархисты! — ответил Селезнев и, заглянув в темное окно, протяжно вздохнул. — Эх! Нет у меня теплой одёжи и хороших собак!.. Я бы им показал анархизм. Сколько дней на собаках до области? — и, не дождавшись ответа, вдруг упрямо хлопнул дверью.
Гриша устало вышел вслед.
* * *
В городке стало еще тревожней, когда узнали, что и в «верховьях» города́ тоже захвачены японцами. Партизаны отступили.
Через день на городской площади Возницын, прихрамывая на раненую ногу, обходил отряд, посылаемый на помощь областному городу.
— Товарищи! — кричал он. — Там льется наша кровь. Почему, я спрашиваю! А потому, что есть на свете разные большевики: одни, как мы, анархисты, врага уничтожают, а другие, как Рощин и Селезнев, разговаривают про какие-то буферы. Я не знаю, про какие там буферы под Читой разговаривают. Но пускай хоть сам Ленин приедет и скажет: «Возницын! Не надо здесь Советской власти!» — не послушаюсь и японцам города не оставлю! А если уж оставлю, то горы трупов. Груды пепла! И наше черное знамя!
Партизаны стояли тихо. Гриша смотрел с тротуара на проводы и лиц уходивших не видел. Но тишина была зловещая. И Возницын это чувствовал.
В трибунале бессменно заседал председатель с распухшими от бессонницы глазами и истощенным лицом и приговаривал к расстрелу все новых и новых невинных людей.
— Жестокость и жертвы — все искупится нашей победой! — кричал Возницын.
Но, как шум тайги перед бураном, пугали его тревожные лица жителей и вечера́, когда в городке было пусто и нигде не горели огни. Казалось, что в темноте городок спасался от гибели. Но и днем было страшно: солнце поднимало набухший лед на реке, и он становился черным, как трупы, горами сваленные у берегов.
* * *
Весна долго не приходила в городок. Низкие тучи, тяжелые, нависли над тайгой и над рекой, и ветер гнал с востока их бесприютные вереницы. А снег, острый, колючий, сыпал и сыпал без конца. В верховьях и на среднем течении реки лед давно набух, зимняя почта не ходила. И городок был отрезан от всего мира.
Март. Темные ночи кажутся еще темней от горя и отчаяния — они поселились в каждом доме, в каждой семье.
Как ни скрывают анархисты списки смертников, кто-нибудь да сообщит, кому грозит казнь. Кто отважнее и моложе, бежит в тайгу, пробирается вверх по реке к большевикам. Кто слаб, того берут ночью и гонят вниз к реке.
И каждую ночь шли арестованные, раздетые, в нижнем белье, босые, мужчины и женщины, юноши, девушки, даже подростки. Шли по обледенелым буграм туда, к реке, где уже возвышались горы трупов.
Недалеко от берега конвоиры рубили проруби, прикладами оглушали приговоренных и бросали их в ледяные ямы.
Яма быстро заполнялась. Тогда убитых кидали поверх, и над прорубью поднимался скорбный холм.
На рассвете, не страшась запрещений, к этим холмам пробирались родные. Разгоняли одичавших собак и по приметам отыскивали своих. Молча, стараясь, по возможности, хоть немного закидать льдом и снегом погибших, прикрывали их страшную наготу. Никто не плакал. Пришедшие словно и сами были мертвы. Изредка слышались тихие, отрывистые слова: «Узнали? Ваш? Нашли?» И это уже казалось счастьем. Торопились на санках увезти убитого и тайком захоронить подальше в тайге, чтобы осталось хоть место, куда можно будет прийти и отдаться горю, если только сохранится возможность человека слезами выражать свое горе.
Читать дальше