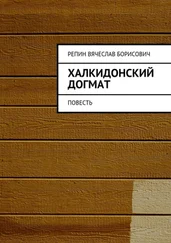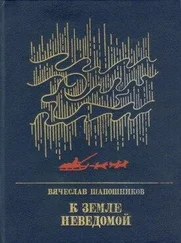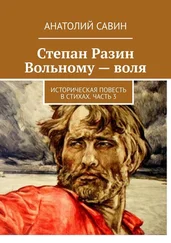Не так ли и по всей России?
«С тех пор черные люди ждут ушедших…»
Покоя не давали страстные речи Максима Осипова.
Скоро Степану Тимофеевичу — сорок лет. Возраст ответа перед богом и людьми за все, что сделал в жизни. Сделал ли главное?
Настала снежная зима. По промерзающим протокам он уходил на коренной высокий берег, гнал казаков-приятелей и слушал, как ветер с крымской стороны посвистывает в голых ивах. Если смотреть но склону вниз, в прогалы между елями, глазу являлось не дно долины с подмерзшим руслом, а мутное сияние пустоты. Оно рождало желание полета-гибели — вниз, в пропасть, а потом, поймав руками-крыльями упругость воздуха, вверх и к далекой кромке чужого берега. Разину с детства мнилось, будто полету птиц предшествует падение, иначе не найдется силы и уверенности в том, что полетишь…
Он возвращался в теплую избу, обедал с есаулами. Те заговаривали о весне, о том, что едоков прибавилось, а хлеб кончается. Никто не говорил прямо, на что надеется. А только выходило, что, кроме Волги, подаваться некуда. Однажды кто-то уронил:
— Волга — казацкая река. Чево хотим, то и вершим на ней.
— Ты бы об этом государю написал, — заметил Осипов.
На его отощавшее от дум лицо с бугристым лбом падал восковой свет. Максим казался Разину не только умней, но дальновиднее других. Самую горькую обиду он перенес в отрочестве, когда закладывается характер. Ненависть к дьякам и боярам у него как бы врожденная, в крови. Дворянство, говорил он, размножилось и ожирело на крестьянском здоровом древе, яко лишай.
Осипов заговаривал о потаенной книге, в коей предсказана гибель всем «порозитам, сиречь подобедам» за все дурное, что они творили сотню лет. «Коли им руки не укоротить, и вольному Дону недолго жить осталось. Настало время посчитаться с ними, молотцы!» Казаки слушали Максима с опасливым вниманием, боясь поверить в неизбежность смертельного столкновения с московским войском. Многим хотелось просто гулять по Волге, Москву — не трогать.
Люди, подобные Максиму, способны принести и славу, и непоправимое несчастье. Он смущал рассудительных есаулов небывалым, высоким мечтанием о всероссийском возмущении крестьян, давно ожидающих головщика, которому они поверят… Он слишком откровенно высказывал то, что Разин давно обдумывал, но хранил про себя. Однако их неявное согласие не ускользало от есаулов. Один из них сказал Степану Тимофеевичу:
— Да ты-то, батько, што позабыл в России? Их крестьянская боль — не наша…
Разин отмолчался, но вопрос неожиданно задел его, засел занозой. Обычно не любивший ковыряться в своей душе, он чуть ли не впервые задумался о том, как получилось, что всероссийская боль поселилась в нем, как своя.
За сорок лет крестьянскую неволю и беды он видел только со стороны. Дядя Никифор, бедный воронежский посадский, конечно, много говорил о непорядках и утеснениях, чинимых воеводами, приказными. Но ни отец Степана, ни сам он не промышляли торговлей или ремеслом. И получалось, что обо всем дурном в стране он много знал, но не испытывал на себе. Так отчего же это знание невыносимо, тяжело залегло в сердце Степана Тимофеевича? Отчего ненависть его к властям была осознанней и глубже, чем у других? Наверное, любовь и ненависть западают и глубоко, и мелко, в зависимости от того, когда их сеют….
Он обращался мыслью к дальнему прошлому своему и видел сильного душой и телом подростка, юношу, вслед за отцом привыкшего считать свободу главным достоянием человека. Именно в те годы он жадно слушал разговоры о покинутой родине отца и деда, где эту свободу все решительнее урезают, отнимают. Бывают в ранней жизни человека трепетные минуты, когда услышанное преобразует душу, как пережитое, подобно волшебной сказке или песне. Степан не в силах был припомнить, разобраться, кто — дядюшка Никифор или иной приезжий человек — привил ему росток возмущения, неприятия того, что большинство казаков считало неизбежным злом; но дальше сама жизнь российская ту веточку усердно питала и растила.
Пожалуй, то еще отличало Разина, что он долго перемалывал, обдумывал и копил в себе все, о чем казаки обычно, облегчая душу, толковали с какой-то отстраняющей неприязнью.
Ум и характер у него иной? Нетерпеливое желание перемен, а значит, власти, но власти благодетельной, освободительной? Припоминался путь на Соловки, житье у черного крестьянина Симона, ночные помыслы о царе черных людей… Из сердца ничто бесследно не уходит, но в жизни сердца и ума, так много переживших за сорок лет, трудно разобраться.
Читать дальше