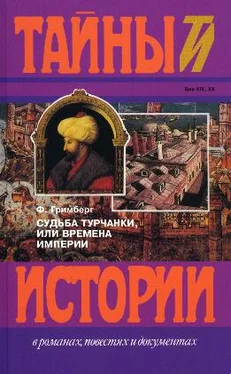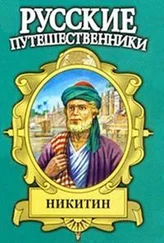— Все, все потерял! — бормотал он сквозь плач.
— Не надо, не надо,— мягко повторяла я, поставив поднос на столик у кровати.
— Отец... мои сестры... там, в С., ты же знаешь, — он плакал громко, плечи его затряслись.
Я знала, что С. — это в Ванском вилайете, что это и есть прифронтовая полоса. Кто знает, как сложилась судьба его родных. Зачем этих людей соблазнили выступить против государства, гражданами которого они являлись? Ведь их обманули. Им внушали, что в армянском государстве им будет лучше, чем в Турции. Их поссорили с их соседями-турками. Во имя чего? Во имя того, чтобы горстка политиков плакалась где-нибудь в Париже: мол, вот, стремились создать армянское государство, а эти «звери-турки» не дали. Зачем они готовы проливать кровь своих единоплеменников, лишать их крова? Неужели им так трудно понять, что турецкая земля никогда не будет принадлежать им? Не будет!
Но я ничего этого не стала ему говорить. Может быть, и он был обманут; и он верил, что идет по пути свободы. Сейчас он действительно все потерял и я не хочу усиливать его мучения своими неосторожными словами.
Он начал бессвязно вспоминать о том, как спорили между собой его отец и дядя-болгарин. Дядя Димитр считал, что отец М. не должен уезжать из Болгарии и увозить детей, разве Болгария не родина ему... Отец М. в ответ горячился и толковал о каких-то якобы армянских землях; разумеется, не учитывая, что эти земли — не армянские, а турецкие, и что турки не отдадут своей земли...
— У меня, — громко шептал М., — у меня была возможность выбора... Я мог бы... можно было... в Пловдиве... остаться...
Он вдруг замолчал, посмотрел прямо на меня широко раскрытыми, воспаленными до красноты глазами и слабо махнул рукой.
— Все это... — хрипло выговорил он, — все это — уже все равно! А то, что я потерял тебя; то, что я потерял тебя,— это конец!
Он действительно любит меня.
— Успокойся,— мягко сказала я, останавливаясь у двери,— я не враг тебе. Отдохни. После подумаем, что делать.
Я вышла из спальни. Я не стала говорить ему, что я тоже люблю его; люблю, несмотря ни на что. Я думаю, он и сам понимает это.
Идет четвертый день нашего затворничества. Вневременностъ (не подберу иного определения) нашей квартиры как-то успокаивает нас, отстраняет немного от всех проблем и мучений.
Сегодня в дверь позвонили. Мне передалось его страшное, паническое напряжение. Мы оба застыли: он — посреди гостиной, я — у двери в кабинет. Первый раз звонок прозвучал требовательно и длительно, затем еще несколько звонков, вслед за первым, легких, необязательных. Затем шаги по лестнице. Спускался один человек. Ушел.
Больше это не повторялось. Стены в доме толстые, а мы, разумеется, не шумим.
М. все больше сидит в спальне, на постели. Все в той же позе — привалившись к стене и скрестив ноги на покрывале. Я сажусь на стул у двери.
Иногда он просит разбитым голосом:
— Не уходи. Посиди еще. Страшно остаться одному.
Я молча выполняю его просьбу. Я говорю мало, но стараюсь, чтобы мой голос звучал мягко. Мне страшно жаль его. Как ему помочь? Может быть, надо было просить Ибрагим- бея? Нет, он не согласился бы.
М. говорит довольно много. Его одолевают бессвязные воспоминания. Он вспоминает своих парижских друзей, пловдивских родственников; пикники на Босфоре, поездки на Принцевы острова, прогулки по истанбульским улицам.
Положение скверное. После всего, что произошло, ему никто из его знакомых не поможет. Да и у его пациенток — не Бог весть какие влиятельные мужья. У него один близкий человек — я. Получается, что я как бы в ответе за него. Да.
Он постепенно приходит в себя. Теперь мне кажется, что он часто говорит одно, а думает и чувствует совсем другое.
Мы снова начали анализировать политическую ситуацию. Я недооценивала его самолюбие. Любое мое осторожное (я не говорю резкое) критическое замечание в адрес армян он воспринимает как направленное лично против него. Но и в этих моих критических замечаниях не кроется ли желание (вероятно, следует сказать «подсознательное желание») уколоть его? Неужели мы снова начинаем бессознательно ненавидеть друг друга? Иногда меня охватывает странное ощущение: мне кажется, будто он сознает, что не любит меня; и чтобы не мучиться этой нелюбовью, ищет во мне дурное... Находит, конечно...
Какие-то мелочные придирки, язвительные реплики. Вчера говорили о том, что у нас кончаются те немногие съестные припасы, которые имелись. Я искренне тревожилась, что же будет дальше, на что решиться, что предпринять.
Читать дальше