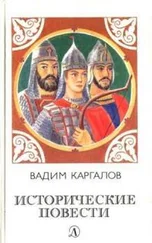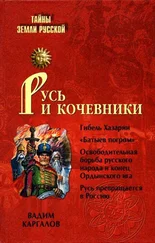В большом затруднении был великий князь Изяслав Мстиславич.
А князь Юрий Владимирович и ростовские воеводы окончательно определились, как дальше вести войну.
Подкрепить ратниками волжские города, чтобы не в поле биться, а на стенах. На крепкой стене один ратник двух-трёх стоит...
Закрыть заставами все дороги вглубь княжества, чтобы не пускать конные загоны великокняжеского войска...
Большим полкам по-прежнему стоять в Москве, Ростове, Ярославле и Суздале...
Воевода Пётр Тихмень проговорил задумчиво:
- Чаю, дальше Мологи великокняжеские полки не пойдут. Может, конница и до Ярославля добежит, но за Ярославль я спокоен, не по зубам сей орешек Изяславу! Пройдёт гроза по краю княжества, если сами под молнии не высунемся...
- Не высунемся! - заверил Юрий. - Не дождётся мой сыновец [130] Сыновец - племянник.
, старший Мстиславич, прямого боя на волжском просторе. Пусть и не надеется!
Якун Короб к месту подсказал:
- А покусывать великокняжеское воинство всё-таки надобно. Пусть почувствуют, что не на своей земле. Мерянским старейшинам надо подсказать, чтобы отпускали лучников на лыжах под великокняжеские обозы. Да и моим молодцам поразмяться не грех, застоялись и кони, и люди.
Воеводы дружно поддержали. Видно, и им было тягостно так стоять - в бездействии и ожидании. Правильно решил князь - не выходить на Волгу большими полками. Но и воевода Короб говорит правильно. Не давать покоя чужой рати!
О том, что ростовские ратники в приволжских городах обречены на неминуемую гибель, не обмолвился никто. Жестокое дело — война. Кому какая участь Богом предназначена: одним — славная смерть, другим — сладость победы. Такая уж судьба у ратника, и роптать на судьбу негоже...
Великий князь Изяслав Мстиславич постоял-постоял у Кснятина и, отчаявшись взять град копьём, пошёл с конными дружинами вниз по Волге. Псковичи и ладожане остались под городом. Смелости у них поубавилось, на стены больше не лезли. Мастера-градоимцы изладили стенобитные орудья, сколачивали из сосновых плах широкие помосты, чтобы придвинуть их на полозьях к стенам. Многих неприятелей кснятинцы пометили стрелами, но остановить работу не могли.
Через две недели после первого приступа тараны проломили ворота Кснятина, и город пал, задавленный вражеским многолюдством.
Но и потери осаждавших оказались тяжкими. Не радость победы ощутили псковичи и ладожане, но горечь. Собрались они мятежным вечем и порешили возвращаться домой. Тщетно отговаривали их великокняжеские воеводы, грозясь гневом Изяслава Мстиславича. Скорбные обозы потянулись во Псков и Ладогу.
Сумеет ли Мстиславич снова поднять в поход ратников из новгородских пригородов?
Следующий город, под которым задержалось великокняжеское войско, был Угличе-поле. Новгородские мужи-советники рассказывали, что град сей очень древний. По преданию, основал его некий княжич Ян Плескович, посланный князем Игорем Старым сюда за данью, и было это два столетия назад. Тогда же начали возводить валы и рыть рвы, а в лето шесть тысяч четыреста девяносто девятое [131] 991 г.
срубили деревянную церковь Константина и Елены. Князь Юрий заново укрепил Угличе-поле, поставил крепкие стены с башнями. Но сильнее стен оберегали город водные преграды. Как на острове стоял град. С севера его прикрывала Великая Волга, с востока — Каменный ручей, с запада - Селиванов ручей, а с юга - глубокий ров, заполненный волжской водой. Но то было летом, а зимой водные преграды оборачивались гладкими ледовыми дорогами, свободно подкатывай к стенам любые осадные орудия!
Как бились и как погибали защитники Угличе-поля, летописцы не узнали и в летописи не занесли. Видно, живых свидетелей не осталось, все угличане равно испили смертную чашу...
Не знаем об этом и мы...
Известно лишь, что до устья Мологи великокняжеское войско дошло в апреле, в Вербную неделю Великого поста. Лед на Волге и на Мологе уже начал крошиться, поверх него потекли талые воды. Местами вода поднималась до брюха коней. Не о наступлении надо было думать Изяславу, а о том, как благополучно уползти восвояси. Тут ещё гонец прибежал с Низа, подтвердил, что Давыдовичи и Ольговичи вступать в Игоревы волости не думают, а если вдруг надумают, то свершить ничего не смогут - распутица помешает. Однозначно выходило - надо возвращаться...
Но не мог Изяслав не попытаться ещё раз уязвить своего соперника!
Вопреки предостережениям воевод, Изяслав кинул к Ярославлю дружинную конницу. Напрасным был этот бросок. Добежала великокняжеская конница до Ярославля, полюбовалась на крепкие стены и башни, высившиеся над неприступными обрывами, и повернула обратно, рассыпалась по прибрежным деревням - пограбить, похватать пленников.
Читать дальше
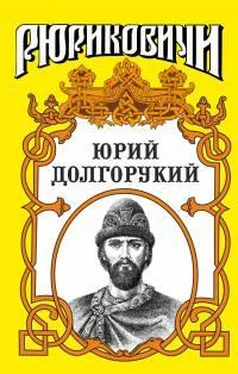
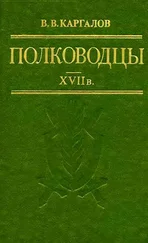
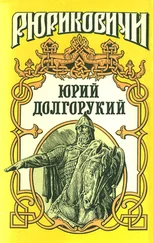




![Вадим Каргалов - У истоков России [Историческая повесть]](/books/394663/vadim-kargalov-u-istokov-rossii-istoricheskaya-pove-thumb.webp)