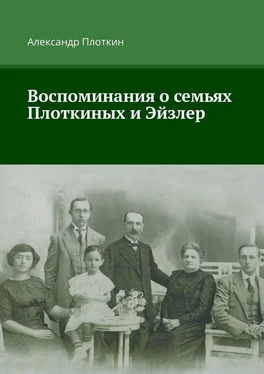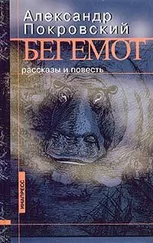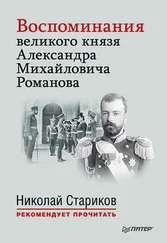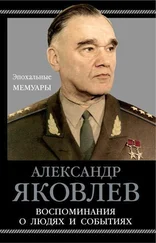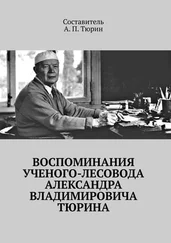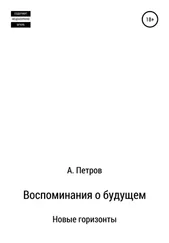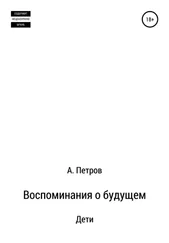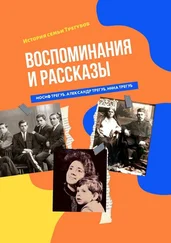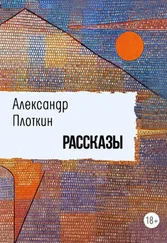Тетю Пашу в семье звали Путя. По какой-то причине, из-за генетики или стрессовых обстоятельств, Путя была психически нездорова. На моей памяти она лежала в больнице психических хроников, располагавшейся на берегу Невы, около Смольного. Все родственники посещали ее, и мама часто брала меня с собой (мне было, думается, 4—6 лет). При больнице был сад, мы гуляли с Путей, и она всегда брала меня за руку, но мне это было неприятно, я ее боялся, зная, что она нездорова. Хотя она была тихая женщина и, конечно, несчастная, и нужно было жалеть ее, но детская несмышленость этого не осознавала. Когда мама умерла, папа ежемесячно навещал Путю. (Какой все-таки был добрый и отзывчивый человек!) Когда началась война, по разным обстоятельствам папа приехал к Путе только в октябре, но Путя уже умерла.
Моя мама и тетя Паша (справа). Полтава
Дядя Яша был последним ребенком в семье Эйзлеров. Он был маленького роста, худеньким и даже взрослым (а я его помню уже взрослым) печальным по-детски. Помню, что жил он со своей мамой, моей бабушкой Ольгой Яковлевной, в том же доме, в котором жили дядя Абраша и тетя Лиза, но на другой лестнице, во дворе. У них была маленькая, но отдельная квартира. Бабушка опекала его как ребенка, ходила на Мальцевский рынок покупала ему творог, сметану и старалась кормить его получше, считая его ослабленным. Работал он счетоводом в жилищной конторе. Когда бабушка умерла, он несколько дней жил у нас, и, помню, очень переживал смерть бабушки, плакал, а мне было странно, что взрослый мужчина такой слезливый. Во время войны ему помогали мой папа и дядя Абраша. Однажды он вышел из дома и пропал. Так никто и не узнал, что же случилось.
Бесспорно, все, что происходит с нами в этой жизни, есть результат сплетения случайностей. Но среди них есть такие, которые оказывают существенное влияние на наши судьбы. Вот о нескольких таких случайных событиях в моей судьбе хочу рассказать.
В январе 1944 года блокада Ленинграда была снята, а в феврале началось восстановление полноценной деятельности промышленных предприятий, фабрик и т. д. Восстанавливалось железнодорожное сообщение со страной. Началось снабжение сырьем и топливом предприятий для возобновления полноценной работы. Структура, оборудование многих предприятий бездействовали или не работали в полную силу, ибо не было рабочих рук. В связи с этим было принято постановление ГКО (Государственного комитета по обороне) создать в Ленинграде фабрично-заводские училища и организовать фабрично-заводское обучение непосредственно на предприятиях, привлекая к этому молодежь — особенно жителей города, имеющих жилье, при этом освободив их от призыва в армию.
К тому времени у меня, да и у других ребят моего возраста, уже были приписные свидетельства о ближайшем призыве в армию. В моем приписном свидетельстве была вклеена путевка в артиллерийское училище. Думал, что постановление меня не коснется. Коснулось! И мне досталось направление в фабрично-заводское обучение на завод ГОМЗ (государственный оптико-механический завод имени ОГПУ).
В апреле я поехал на завод, сдал документы, и меня определили учеником токаря в 12-й цех (инструментальный) на токарный участок. Набралось на участке нас 4 мальчика, и приставили к нам пожилого рабочего-мастера, токаря, по всему поведению типичного питерского рабочего. По тому, как он разговаривал, вел себя, чему учил, и как вообще относился к нам.
Вот несколько примеров:
На заводе в это время уже кроме рабочей карточки (а были рабочие карточки на хлеб и продукты и иждивенческие карточки, последние предполагали меньшую норму на продукты и хлеб) давали талоны на обед. Их давали каждому перед обеденным перерывом, то есть надо было быть на работе в этот день. Обед по этому талону был незамысловатым, и порции были небольшие. Обычно какое-нибудь второе и порция соевого молока с кусочком хлеба. Но можно было копить эти талоны, не использовать их, и тогда в конце месяца на них в столовой можно было получить какие-нибудь консервы или крупы, макароны. Так вот, этот токарь именно этим и пользовался, чтобы для всей семьи был какой-нибудь прибавок. А сам приносил в типичной для старых рабочих торбочке на обед бутерброд, состоящий из двух ломтей хлеба, между которыми — слой какой-нибудь каши. Этот «бутерброд» с кипятком и был его обедом. Вот он своим поведением давал нам пример отношения главы дома к семье.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу