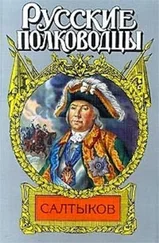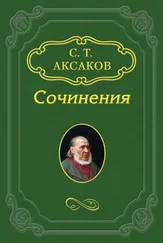— А тебя не водил?
— И мной помыкал, я того не таю.
— Так ты что, о том времени заскучал? Да? Кто тебя в войсковые писари затащил?
— Ну ты. Ну и что?
— Я. Я, дурень, за тебя старался, и Раду уговорил: помощник мне добрый будет. А ты? Впоперёк пошёл. Я завтра сложу с себя атаманство, ты где окажешься? Опять в курене, на своём аршине, блох кормить и вшей давить.
Гук замолчал, видно, угроза кошевого не шутейная была.
— То, что тебе от государя не было подарка, вон с Быхоцкого спрос. Да и не было, так будет, как Бердяев на Москву воротится. Но чтоб из-за этого бунтовать казаков.
— Я не бунтовал, — промямлил Гук.
— А я что, слепой? Твой курень более всех и мутил воду. Мало мы из-за Серко годами на одной рыбе сидели. Ты что, того же хочешь войску?
— Но присланы же деньги на хлеб.
— Присланы. А кем? Великим государем, дурак. Он о Сечи печётся, он наш христианский государь. Не хан, не король, а великий государь наш. А ты зовёшь ему не присягать. Кто ты есть после этого? Кто?
Гук молчал, переминаясь с ноги на ногу.
— Так вот, Петро, ежели завтра ты сызнова затеешь бунт, ей-ей ворочу тебя в прежнее твоё состояние, а там велю войсковому судье судить тебя за неповиновение кошевому атаману.
Меж тем пока Стягайло «перчил» войскового писаря, Нечипор принёс свежежареную рыбу, поставил на стол огромную сковородку.
— Братцы, — не выдержал искуса Соломаха, — давайте поснедаемо, бо кишки слиплись.
— Да, да, да, — спохватился Стягайло. — Худой я хозяин, гостей заморил. Сидайте, сидайте, господа. Нечипор, принеси горилки, чарки.
Все уселись вкруг сковороды, один Гук оставался стоять у двери.
— А ты чего, Петро, — крикнул Соломаха. — Чи, у Бога теля зьив?
— Иди, сидай, бунтовщик, — молвил миролюбиво кошевой.
Гук сел на краю лавки. Стягайло сам разлил горилку по чаркам.
— Ну, за что выпьем?
— Дозволь мне, Иван, — поднялся Соломаха.
— Дозволяю, — усмехнулся кошевой. — Говори.
— Я предлагаю выпить, кошевой Стягайло, за твои клейноды. За твою счастливую булаву.
— Но...
— Погодь, погодь, Иван, дай кончить Гетман Иван Самойлович велел передать, что как только Сечь присягнёт царскому величеству, так и будет там и булава, и бунчук у кошевого.
Стягайло побледнел, столь неожиданно-нежданно свалилась эта весть на него. Весть, которую до конца жизни ждал Серко, да так и не дождался. А он? Только вчера стал кошевым — и вот уже клейноды, символы его настоящей власти и высокой чести, обещаны.
— Ну, Михайло, — наконец вымолвил он взволнованно, — да за это, да за такую весть... Дай я тебя поцелую.
Кошевой потянулся к Соломахе, обнял его, расцеловал, расплескав из чарки горилку.
— Э-э, где пьют, там и льют, — сказал весело, снова наполняя её. — Пьём, братцы.
После второй чарки кошевой поднялся, прошёл к Гуку, полуобнял его.
— Эх, Петро. Нам ворочают клейноды Ты хоть понимаешь, что это значит?
— Понимаю, атаман, понимаю.
— А коль понимаешь, зачем же мне палки в колеса? Петь? А?
— Прости, Иван, бес попугал.
— Крестом его, окаянного, крестом гони прочь от себя, Петя. Я прощаю тебя, но и ты ж на меня сердце не держи.
Назавтра дивились казаки, как войсковой писарь, взобравшись на степень, стал звать казаков к присяге. И сам вместе с кошевым и есаулом пошёл первым целовать крест великому государю на верность. А за ним и его курень.
Сечевому попу отцу Арсению в тот день подвалило работы, ибо крест, который целовали казаки, держал в руках ор и каждому, осеняя крестом, говорил нравоучительно:
— Не порушь креста, сын мой, не бери греха. Где крест, там сила, где грех, там нечистый.
К вечеру крестоцелование окончилось и кошевой распорядился выдать каждому присягнувшему по доброй чарке горилки. Атаманы-молодцы пили, а выпив, пеняли:
— Ось с цего треба було и починаты. Га-а!
Глава 41
ИВАН ВЕЛИКИЙ И ЦАРЁВ НАКАЗ СОБОРУ
Кремлёвский Иван Великий — самый высокий в Москве, главу его золотую отовсюду видно, и москвич мигом находит его взором, когда вспоминает о Всевышнем и когда хочет попросить у него чего-нибудь: доброго дня, удачи в покупке или продаже, счастливой дороги, верного товарища, дармовой чарки или денежки, которую какой-нибудь разиня обронил для него. Хошь не хошь, и Ивану Великому поклонишься.
В Крещение в Москве было хоть и холодно, но солнечно Снег под ногами поскрипывал, на реке проруби парили; на площадях толпился народишко, кто с делом, а кто и так просто, любопытства ради. На Ивановской площади закричал кто-то:
Читать дальше