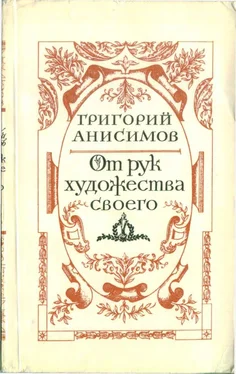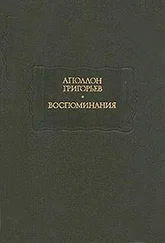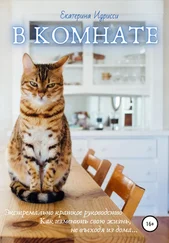Труднее всего было найти пропорции для соотношения ярусов по ширине и высоте. Вот тут я помучился, тут попотел. Я хотел, чтобы моя колокольня была похожа на стройную молодую женщину — переполненную жизнью до края. Когда работал, я чувствовал, что по моим жилам пробегает пламень и другие не остаются равнодушными к моему творенью.
Я знаю, что язык архитектуры должен быть простым и ясным, с интонацией дружеского разговора. И следую этому неукоснительно. Никакой ложной многозначительности.
Я говорю себе, когда работаю: стой выше всех пороков и всех добродетелей. Учись у древних зодчих России. Они это умели. Они знали тайну великой и сложной простоты.
Бывало, смотришь на русские храмы в Москве — и слезы умиления набегают на глаза. Такого я не видел нигде.
Это могли построить люди с пылкой душой. В них сохранилось наивное счастье бытия.
Я люблю горы и думаю: есть ли что прекрасней горы, подпирающей небо вершиной? Гора — храм бога, так может ли человек тягаться с творением бога? Не может! Чтобы построить храм — подобие божьей горы, нужно попытаться понять замысел творца. Приблизиться к нему. Архитектор вписывает свой храм в природу, не стремясь ни возвыситься над ней, ни тем более покорить ее. Неразумный может решиться на состязание с природой. Но человек, наделенный душой и разумом, поступает иначе. Он не борется с природой, он пытается постигнуть себя, ее — и поместить ее в себе, а себя в ней.
Почему-то всегда мне хотелось поставить храм. Он часто мне снился. Он виделся мне мостом, перекинутым через пропасть, перечеркнувшим бренную раздвоенность живущих.
Я видел храм как место, где каждый чувствует меру истинного в себе. Храм очищения души…
Храм. Колонны, ярусы, арки… Магия искусства. Только свет художества может приблизить, сделать безымянного мастера живым, рядом стоящим, вызволить его из тысячелетних далей.
Растрелли вспомнил русские храмы, которые он видел. Благовещенский собор в Кремле, Троице-Сергиева лавра в Загорске, Успенский собор. Вспомнил, как все виденное поразило его. Резные порталы, декоративные детали, шатры, боярские палаты, золоченые флюгера. Сама вечность. Он по-новому взглянул на Россию, глубже понял ее. За фасадом варварской грубости открылись ему неисчерпаемые кладовые совестливости, сострадательности, нежности.
Всю жизнь он сберегал чертежи русских храмов, которые сделал в разное время. Сберегал как самое дорогое.
* * *
В Москве его приняли с большим радушием. Еще бы! Сам обер-архитектор двора пожаловал. Его трактаментовали [21] Трактамент — в данном случае обед в честь именитых гостей.
знатным обедом в присутствии сиятельных господ и разодетых дам. Ему оказывали немалую честь. Когда денег нет, то и честь — воздаяние за труды. На обеде были жены крупных вельмож — верхушки двора. Их всегда неудержимо тянуло к художникам, поэтам, артистам: эта свободная братия заражала желанием сломать нумерованный распорядок жизни. Обычно жены министров, канцлеров и кабинет-секретарей мало смыслят в художестве. Публика эта надменная и ограниченная. У них и вкус дурной, и пониманье слабое, но зато они часто делают погоду и нередко творят чудеса заступничества за шарлатанов. Растрелли это знал. Он напустил на себя важности. Держался скромно, но в меру. Учтиво и сдержанно — тоже в меру. Был галантен, внимателен и несколько рассеян, как человек, который занят не собой, а исключительно делами государственной важности. Всем видом своим Растрелли доказывал, что быть художником обременительно.
В толпе жен сановников попадались очень хорошенькие — им архитектор улыбался как знаток и ценитель красоты. От природы Растрелли не был слишком изнежен, но в кругу людей, куда он теперь попал, происходили постоянно такие перестановки и встряхиванья, к каковым привыкнуть и притерпеться никто не мог. Тем более Растрелли, который так и не привык угождать сразу всем — отечеству, двору и самому себе.
А ведь Растрелли был на российской службе уже около тридцати лет и ко многому попривык: к неудержимой хвале и сразу после нее — к отношенью совершенно им не заслуженному, часто и вовсе собачьему. Но привыкнуть к капризам двора, к его дурачествам, когда вывертывают не токмо душу, но и члены из суставов, — он так и не научился. Кто ж этому научится? То была политика, не доступная даже его немалому уму.
Обер-архитектор старался держаться от всего этого подальше, так как постоянно был поглощен делом. Знал он, что политика — дело темное, очень плохое и сугубо запутанное. Сразу попадешься, как заяц в тенета.
Читать дальше