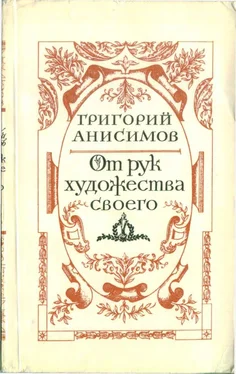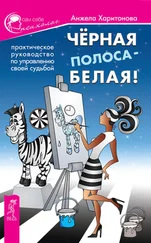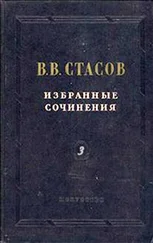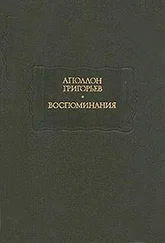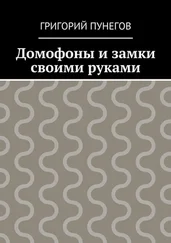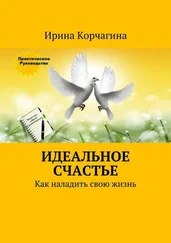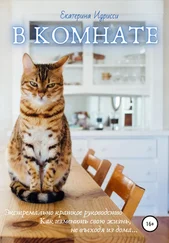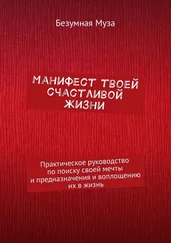Когда раздумываешь о тяжких трагических судьбах, невольно пускаешься в рассужденье о несправедливости бога, допускающего, чтоб гибли лучшие из людей и гасли лучшие стремленья возвышенных и чистых душ.
Когда повернул я портрет барона Строганова, то увидел на обороте собственноручную надпись мастера: "малевал Иван Никитин в Санкт-Питербурхе в марте месяце 1726 года". И портрет митрополита тоже подписан: "малевал Иван Никитин в Тобольске в феврале месяце 1740 года".
Все, все было у Никитина — редкий талант, живой ум, независимость, острота взгляда, незамутненность очей. Единственное, чего ему недоставало, — немножечко счастья. Впрочем, сам он был, возможно, совсем другого мнения об этом…
Боже, боже, как я тогда работал, с каким чудесным исступленьем! Сидел долгими часами над каждым чертежом. Сделал подряд четыре варианта Смольного. И каждый из них был по-своему хорошо исполнен. Фасады монастыря и всех его зданий должны были, на мой вкус, быть богато оформленными.
А план самого собора я задумал в виде греческого креста. Вот где наконец воплощалась моя давняя мечта о лепной, полной трепета живописной архитектуре.
В помощь себе я взял крепостного П. Б. Шереметева — Федора Аргунова. Мне приятно было, что в нем я не ошибся. В тридцать два года, будучи каменных дел подмастерьем, он достиг блестящего развития ума и дарований. Видно, над его образованием немало потрудился Андрей Матвеев, обучавший его рисованию. Я часто вспоминаю его. Это тоже мастер из мастеров — умница прелестный, душевный художник! Такие черпают из невидимых ульев и щедро делятся с другими трудно добытым золотым небесным медом.
Федор Аргунов всегда поражал меня страстью творить, своей редкой въедливостью. Он выстроил фонтанный дом Шереметевым, спроектировал и построил в усадьбе грот, ворота, эрмитаж, китайскую беседку у пруда — и все самостоятельно, все с таким богатством облика, с таким великолепьем, что можно только позавидовать. Я когда увидел — подумал: да ведь это я сделал, но когда же? Или не я? И почему не я? Никак в толк взять не мог. Аргунов лучше многих понимает мой стиль, мой подход и приемы, чем мой прямой ученик Чевакинский. А сколько я вложил в этого Савву, долбил ему, возился. Но он слишком норовист, просто бешеный. Начал он строить пятиглавую церковь в Царском Селе на одном из павильонов Большого дворца — так мне за ним пришлось переделывать. Аргунов — тот хоть послушен: в лепешку готов расшибиться, но сделает так, как заранее условились. А Савва строптив, упрям; впрочем, без этого в художестве тоже нельзя.
Со Смольным мне опять не везет. То рьяно взялись, гнали, торопили, а теперь ни копейки денег не отпускают. По сей день я успел построить только келейные зданья монастыря — да и то вчерне. Хорошо, что хоть кельи полностью отделали. Из них сто одиннадцать уже готовы. Да сваи вбили под колокольни.
Мне всегда хотелось добиться ослепительного каскада, звучных колонн, собранных в пучки, игры позолоты с голубизной стен — чтобы это все пело. И это, мне кажется, здесь удалось.
Когда приятно зрению, когда есть радость, игра, движение, каприз — вот тут и начинается настоящая архитектура. Пока разворачивались работы в Смольном, я придумал анфиладу парадных комнат для Большого Царскосельского дворца. Решил Садовый фасад "Среднего дома" — со скульптурами и лестницей, ведущей в парк.
В Царском закончили мой Эрмитаж — он стоит, раскинув руки-колонны, готовый обнять любого человека. Он получился легкий, воздушный. Даже при хмуром небе это строенье вселяет в меня блаженство.
Скорей бы зажил на воздухе мой Смольный — и тогда можно, пожалуй, будет немного передохнуть. Подустал я изрядно, однако же… Почему я так пекусь о каждой своей постройке, переживаю, вкладываю все сердце, все свои силы? Иначе не могу. В архитектуре, сам того не замечая, идешь по чьим-то следам. Перед твоими глазами маячат чьи-то победы и пораженья. Тебе хочется быть творцом, а ты поневоле становишься подражателем, в лучшем случае — соперником. Пробиваешься к истине, отбрасывая чужое виденье, отметая чужие пристрастия. А трудности меж тем постоянно растут.
Я вижу, как взметнулась вверх колокольня Смольного, — пока это еще в чертеже и в деревянной модели. Колокольня прочертила вертикаль в сто сорок метров высотой. Она создала ритм и для входа, и для всех четырех церквей в углах стыка. Никогда еще не удавалось мне добиться такой цельности, такой легкости, где словно вверх распрямляется пружина пускового механизма и ни в одном куске нет ничего бесцветного, растянутого, однообразного. Колокольня составлена мной из нескольких ярусов. Каждый легче другого — и так до самого луковичного купола. Они беседуют меж собой — купол неба и купол колокольни.
Читать дальше