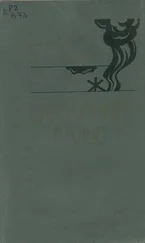Вышел Ефим в сени, смотрит: что за беда? И на улице темно, и на станции темно, и кругом темно. А тут еще небо в черных тучах и луна пропала.
Забежал Ефим в комнату и сказал:
— Зажигайте, мама, коптилку. Это не пробки перегорели, а, наверное, что-нибудь на заводе случилось.
Мать пошла в чулан за керосином, а Ефимка, разыскивая сапоги, торопливо полез под кровать. Левый сапог нашел, а правый никак.
— Наверное, это вы опять куда-нибудь задевали? — спросил он у притихших ребятишек.
— Это Валька задевала, — сознался Николашка. — Она стащила сапог за печку, воткнула в него веник и говорит, что это будет сад.
— Ефимка, а Ефимка, — тревожным шепотом спросил Николашка, — что это такое на улице жужукает?
— Я вот вам пожужукаю, — ответил Ефимка. И, выкинув из сапога березовый веник, он с опаской сунул руку внутрь голенища, потому что уже однажды эта негодница Валька, поливая свой сад, вкатила ему в сапог целую кружку колодезной воды. — Я вот ей хворостиной пожужукаю!
Но тут и он замолчал, потому что услышал сквозь распахнутое окно какое-то странное то ли жужжание, то ли гудение.
Он натянул сапоги и выскочил из комнаты. В сенях столкнулся с матерью.
— Ты куда? — вскрикнула мать и крепко вцепилась в его руку мокрыми от керосина пальцами.
— Пусти, мама! — Ефимка рванулся и выбежал на крыльцо.
Оглянувшись, он торопливо затянул ремень, надел кепку и быстро побежал темной улицей через овражек, через мостик в гору — в ту сторону, где стоял их небольшой стекольный завод.
В сенях что-то стукнуло. Кто-то впотьмах шарил рукой по двери.
— Кто там? — спросила мать, а Валька и Николашка подвинулись к ней поближе.
— Не спишь, Маша? — послышался дребезжащий старческий голос.
И тогда мать узнала, что это соседка Марфа Алексеевна.
— Какой тут сон, — быстро заговорила обрадованная мать. — И свету нет, и аэроплан гудит, и самого нет. А тут еще Ефимка так и рванулся из рук, как будто бы его кипятком ошпарили.
— Комсомольцы, — с грустью проговорила бабка.
Слышно было, как отодвинула она табуретку и положила руку на клеенчатый стол.
— Вот так и у меня Верка, как потух свет да услыхала она, что гудит, кинулась сразу к двери. Я ей говорю: "Куда ты, дура?.. Ну мужики, ну парнишки… А ты ведь еще девчонка… Шестнадцать годов". А она постояла, подумала. "Бабуня, — говорит, — не сердись. Это белый аэроплан. Это тревога. У нас сбор… У меня там товарищи". Схватила в сенях с гвоздя сумку да, как кошка, прыгнула. Вот, Маша! Только я ее и видела.
— Сумку-то какую взяла? — спросила мать.
— А бог ее знает! Недавно притащила, сначала в комнате повесила. Да я сказала: "Убери, Верка, в сени, а то вся квартира карболкой пропахнет".
— Это военно-санитарная сумка, — вставил Николашка. — Это когда пробьет человека пулей или рванет его бомбой, вот тогда из этой сумки достают и завязывают. Я уже все узнал.
— Ты да не узнаешь! — вздохнула мать и, услышав, как загромыхал он табуреткой, спросила: — Ну и куда ты, Николашка, лезешь? Ну и что тебе не сидится? Только Валька задремала, а он — грох… грох…
— Мама, — отодвигаясь от подоконника, уже тише спросил Николашка, — а что это такое далеко бубухает: бубух да бубух?
— Где, паршивец, бубухает? — тихо переспросила вздрогнувшая мать.
И от этих глупых Николашкиных слов руки ее ослабли, а маленькая спящая Валька показалась ей тяжелой, как большой камень.
Она подвинулась к окошку. И точно, как порывы шального ветра, как отголоски уже недалекой грозы, что-то вздрагивало, затихало, но это был не ветер и не гроза, это глухо и часто бабахали боевые орудия.
Чем ближе подбегал Ефим к заводу, тем чаще и чаще попадались ему торопящиеся люди, хлопали калитки, громыхали ворота и тарахтели телеги. Поднимаясь в гору, он нагнал комсомолку Верку.
— Бежим скорее, Верка. Ты не знаешь, где это бабахают?
— Погоди, Ефим! Подержи-ка сумку. Я чулок поправлю. Я уже спать собралась, вдруг — гудит. Насилу от бабки вырвалась.
— Что чулок, — ответил Ефим, забирая пахнувшую лекарствами сумку. — Что чулок! У меня и вовсе один сапог на босу ногу. Скорей бежим, Верка.
У поворота они столкнулись с двумя. Один был незнакомый, длинный, с винтовкой, другой — без винтовки, с наганом.
И тот, который с наганом, был член ревкома Семен Собакин.
— Стойте, — приказал Собакин. — Вы куда? На сбор? Там пока и без вас обойдутся. Бегите скорее на перекресток Малаховской дороги. Сейчас пойдут подводы для беженцев. Сидите, дежурьте и считайте. Пятнадцать подвод сразу на Верхние бугры, и пусть ждут у школы. Десять — по Спасской в самый конец. А все остальные к ревкому.
Читать дальше
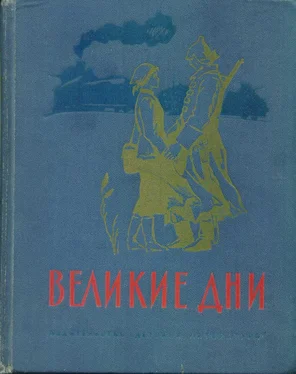
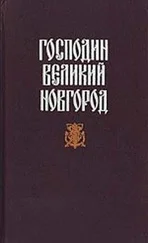


![Николай Олейников - Боевые дни [Рассказы, очерки и приключения]](/books/30485/nikolaj-olejnikov-boevye-dni-rasskazy-ocherki-i-p-thumb.webp)