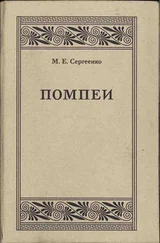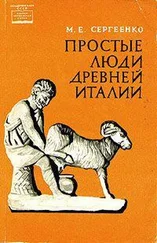Въехавшие во двор спешились все, кроме одного человека с бледным, словно обсыпанным мукой прыщавым лицом и светло-голубыми глазами навыкате. Глаза смотрели без всякого выражения, лицо было холодно и бесстрастно. Дионисий почему-то вспомнил крупную змею, которую он недавно убил. Обвившись вокруг дерева, она тянулась к маленькой пичужке, застывшей на ветке. У змеи были такие же, как у этого человека, глаза, лишенные выражения, безжалостные. «Кто это? — старался угадать Дионисий. — Бедный, бедный Прим! Поймали-таки!.. Какой это из негодяев прислужников Суллы? Хрисогон? Нет, тот, говорили мне, молод и очень красив. Уж очень раболепно-угодливы все! — И вдруг его словно ударило: — Да ведь это сам Сулла! Таким вот как раз описывал мне его Тит. Бедный, бедный Прим?»
Всесильный диктатор заговорил, и голос его, ровный, без всяких интонаций, был таким же безжизненным и жестоким, как и глаза:
— Этот преступник, — он повел рукой в сторону Прима, — отрицает, что видел тебя. Но мой врач говорит, что наложить повязку таким образом могла только искусная рука. В округе ты единственный врач. Как смел ты помочь человеку, который занесен в проскрипционные списки?
— Разве можно не помочь тому, кто нуждается в помощи?
— Ты не знал, что он в списках?
— Он сам мне сказал об этом. Мне это было безразлично.
Лицо Суллы налилось кровью, и он закричал во весь голос:
— Ты умрешь сейчас же!
— И ты умрешь в свой час. И умирать тебе будет страшнее, гораздо страшнее, чем мне.
Сулла почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Он был суеверен, и этот старик, который не встал перед ним, говорил так спокойно, улыбался такой ясной улыбкой, не только не просил пощады и не испытывал никакого страха перед смертью, но открыто признавался в пренебрежении к его воле, преступить которую люди и помыслить не смели, невольно заинтересовал его… и не только заинтересовал. Ему, всевластному диктатору, перед которым трепетало все, от единого жеста которого зависели жизнь и смерть не только отдельных людей, но и целых племен, — ему стало страшно этого одинокого, бессильного человека, который сводил на нет его могущество своим спокойным достоинством, своей непоколебимой верой… во что?
И, заставив себя улыбнуться своей страшной улыбкой, от которой стыли сердца, он спросил Дионисия деланно-небрежным тоном:
— Почему мне будет страшнее умирать, чем тебе?
— Потому что ты никогда не слушал голоса совести… потому что ты считал себя выше всех людей… потому что только злоба и месть были твоими учителями.
Сулла так дернул лошадь, что она взвилась на дыбы. У него перехватило дыхание; в углах губ клочками собралась пена; он не мог произнести ни слова и только страшными жестами требовал: убить, убить… скорее… скорее.
Один из солдат метнул копье; оно попало в грудь Карпа, заслонившего собой Дионисия. Дионисий склонился над упавшим; меч, ловко направленный в спину, прошел ему в сердце.
— Чтоб камня на камне… — прохрипел наконец Сулла, вскочив на коня, и стремительно погнал его прочь от этого страшного места, где впервые за всю свою жизнь услышал он правду о себе.
* * *
Когда Ларих, возившийся во дворе, увидел зарево в стороне Вязов, сердце у него замерло. Забыв обо всякой осторожности, он бегом кинулся к усадьбе.
Догорала солома: огненным веером разлетались хлебные зерна; в закопченных, потемневших от дыма стенах не было ни окон, ни дверей. Посредине двора лежали убитые Гликерия, Карп и Дионисий. Откуда-то выполз Негр и с воем кинулся к Лариху. Ларих взял собаку на руки и горько-горько заплакал.
 Все, что происходило в Старых Вязах, видел и слышал, притаившись за огромным старым тополем, племянник Лариховой жены, молодой человек, который недавно приехал из Массилии. Он настойчиво звал туда Лариха, и за переезд стояла и Ларихова жена, уроженка Массилии, горячо любившая этот город. И многочисленная родня ее жила там. Ларих сам склонялся к отъезду; теперь, после убийства Дионисия, решение было им принято стремительно и бесповоротно. Меньше чем через месяц он уже плыл к Массилии.
Все, что происходило в Старых Вязах, видел и слышал, притаившись за огромным старым тополем, племянник Лариховой жены, молодой человек, который недавно приехал из Массилии. Он настойчиво звал туда Лариха, и за переезд стояла и Ларихова жена, уроженка Массилии, горячо любившая этот город. И многочисленная родня ее жила там. Ларих сам склонялся к отъезду; теперь, после убийства Дионисия, решение было им принято стремительно и бесповоротно. Меньше чем через месяц он уже плыл к Массилии.
Уведомить Тита и Никия о смерти Дионисия он считал обязанностью, но как? Прийти самому к Титу он побоялся и решил послать племянника. Пусть расскажет… А вдруг подслушают? И он написал длинное письмо, в котором в точности излагал все случившееся, но Суллу заменил сиракузским тираном Гиероном, а Дионисия — учеником Аристотеля Феофрастом, имя которого часто слышал от старого врача; об исторической точности и хронологии Ларих не беспокоился. «Тит поймет», — решил он и отправил племянника по адресу, который ему сообщил «на всякий случай» Дионисий.
Читать дальше

 Все, что происходило в Старых Вязах, видел и слышал, притаившись за огромным старым тополем, племянник Лариховой жены, молодой человек, который недавно приехал из Массилии. Он настойчиво звал туда Лариха, и за переезд стояла и Ларихова жена, уроженка Массилии, горячо любившая этот город. И многочисленная родня ее жила там. Ларих сам склонялся к отъезду; теперь, после убийства Дионисия, решение было им принято стремительно и бесповоротно. Меньше чем через месяц он уже плыл к Массилии.
Все, что происходило в Старых Вязах, видел и слышал, притаившись за огромным старым тополем, племянник Лариховой жены, молодой человек, который недавно приехал из Массилии. Он настойчиво звал туда Лариха, и за переезд стояла и Ларихова жена, уроженка Массилии, горячо любившая этот город. И многочисленная родня ее жила там. Ларих сам склонялся к отъезду; теперь, после убийства Дионисия, решение было им принято стремительно и бесповоротно. Меньше чем через месяц он уже плыл к Массилии.