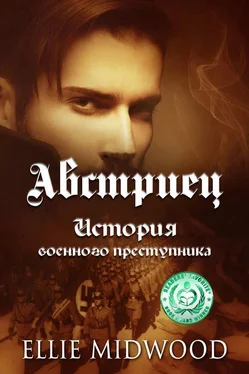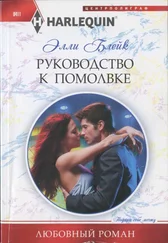Они не очень-то благородно дрались, коммунисты, может, потому что принадлежали к рабочему классу и никто их не научил манерам, но суть в том, что они могли запросто заехать стулом по спине, если по другому победить не получалось. Я, например, однажды получил пивной кружкой по затылку; очнулся я уже в госпитале, с легким сотрясением и болезненными швами за ухом. Швы хоть потом и вынули, но волосы на том месте так назад и не отрасли, и только за это я мысленно поклялся лично задушить каждого коммуниста, кто попадется мне в будущем. Однако, нельзя нас было тогда винить в нашем воинственном настрое. Мы были всего лишь продуктом послевоенных лет, запутанные исходом войны, обиженные на весь мир, озлобленные на тех, кто «предал» нас и медленно, но с железной волей, идущие к решению поклясться сбросить наши оковы и восстановить наше чувство собственного достоинства.
Некоторые из моих братьев были несколькими годами старше, чем остальные, потому как им пришлось бросить учебу, чтобы пойти на фронт, а потом не имели возможности возобновить её в течение нескольких лет, так как были единственной опорой своим семьям, потерявшим отца. Те же из нас, кто были слишком малы, чтобы присоединиться к армии, всегда чувствовали на себе странного рода вину, как если бы наш юный возраст был нашей виной в том, что мы не могли выполнить долг перед страной. Мы всегда смотрели на тех своих старших братьев почти с обожанием: их военная служба раз и навсегда сделала их неопровержимым авторитетом в наших глазах. Большинство из лидеров разных групп в братстве были бывшими солдатами, и с первого же дня, когда я был еще несмышленым первокурсником в новом городе на другом конце страны, они были теми людьми, что взяли меня под свою опеку и научили безоговорочной субординации.
Если не считать этого, то мы все были более или менее равны. Мы были почти как настоящая семья, живущая в одном доме, обедающая в одной столовой, помогающая друг другу с учебой, проводящая свободное время за играми и пением национальных гимнов, и конечно же фехтованием. Фехтование было не просто видом спорта, это было скорее традицией, старейшей и самой почитаемой, которая должна была сблизить нас, как братьев, и научить храбрости, ловкости, бесстрашию и гордости. Потому-то мы и не закрывали наши лица, так как смеяться в лицо опасности и позволять противнику нанести удар вместо того, чтобы отстраниться от сабли, с клинком острее чем опасная бритва, вот что делало из мальчишек настоящих мужчин.
Мне сначала было страшно позволить себя ранить. Я был очень хорошим фехтовальщиком, и даже больше. Один из моих старших братьев, тот, что решил учить меня лично после того, как наблюдал за некоторыми из моих дуэлей, хлопал меня по спине каждый раз и говорил:
— Хорош ты, дьявол! Только вот ты так хорош из-за твоего страха. А так не пойдет.
Я сначала не понимал, что он имел в виду, пока в один прекрасный день, во время нашей очередной тренировки, он не взял саблю из моей руки и не приказал стоять и не дергаться, что бы он ни делал. Я послушно стоял не шевелясь, когда он поднес саблю к моим глазам, к носу, тронул шею её концом… Но когда он сделал первый взмах, я невольно отдернул голову назад.
— Вот видишь? Ты боишься клинка. Это единственная причина, почему ты так неуязвим, потому что ты готов сделать все, чтобы только защитить себя. А я не хочу, чтобы ты защищался. Только слабые защищаются. Я хочу, чтобы ты нападал, и нападал безо всякого страха. Ты не можешь бояться маленького пореза. Нельзя выиграть битву без единой царапины, и я хочу чтобы ты это понял уже сейчас, когда ты еще молод.
Пока я стоял перед ним, стыдясь признать собственную слабость, он вынул рубашку из штанов и задрал её до шеи, обнажив уродливый шрам на правой стороне груди, один из многих, исполосовавших его лицо и тело тонкой сеткой.
— Британец напорол меня на свой штык во время контратаки. Знаешь, что я сделал в ответ? Собрался с силами, пнул его в живот, выдернул чертов штык из груди, заколол его им же и бросил все-таки гранату под танк. Я очнулся в полевом госпитале похожий на египетскую мумию, но суть в том, что я не побежал. Не дернул назад к траншеям, не стал звать мамочку или поднимать руки вверх, моля о пощаде. Я дрался, и плевать было, умру я или нет, если только я погибну с раной в груди, а не спине, как у последнего дезертира и труса. Так что стой, как мужчина, и не смей дернуться!
Я до сих пор помню, как уперся ногами в пол и вжал язык в плотно стиснутые зубы, с ужасом наблюдая, как он медленно поднимает клинок к моему лицу. Он смотрел мне неотрывно в глаза, и я сделал над собой усилие, чтобы выдержать его взгляд. Нас было всего двое в спортзале, где он меня учил, и дернись я опять, никто бы этого не увидел. Только я и моя совесть назвали бы меня жалким трусом. Он держал саблю твердой рукой, затем взмахнул запястьем с привычной легкостью, и метал последовал за ним по намеченной траектории. Я даже смог побороть инстинкт зажмурить глаза при виде приближающегося лезвия, только едва моргнул в тот момент, как клинок рассек кожу на виске, пройдя сквозь нее, как сквозь масло, почти безболезненно. Я уже облегченно смеялся, когда он бросил мне свой носовой платок.
Читать дальше