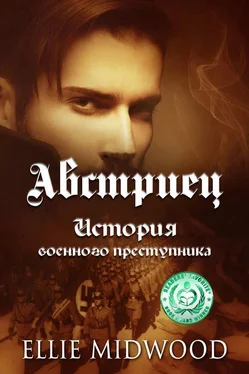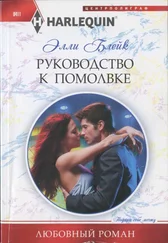— Мама! Это уже просто не честно! Ты меня шантажируешь! — простонал я и спрятался лицом на столе, закрыв голову обеими руками. Она знала, что я и так-то не мог выносить её слез, но это было уже последней каплей, её слова, что она произнесла только чтобы вызвать во мне еще больше вины, чем я уже испытывал, за то, что был безответственным сыном, который наконец-то обрел свободу и впервые в жизни наслаждался собой, как и любой нормальный молодой человек в моем возрасте.
— Нет, вовсе нет, прости меня, — тихо сказала она и заставила себя собраться. Я почувствовал её руки поверх моих, когда она начала гладить мою голову. — Ну прости меня, я только сказала это, потому что хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты был счастлив, сынок. Ты никогда не поступишь неверно в моих глазах. Ты абсолютно прав, я не имела права тебя об этом просить, это было нечестно по отношению к тебе. Делай, что тебе по душе в жизни; если хочешь путешествовать — я буду только рада и все пойму и всегда тебя поддержу. Мы попросим Вернера поступить на юридический факультет. Мы что-нибудь придумаем. Я никогда себе не прощу, если я стану причиной того, что ты станешь чем-то, что ты так ненавидишь.
Я поднял голову и взглянул в её любящие глаза. Моя мать была единственной женщиной, которая знала, как контролировать меня через самую большую власть, что она имела — её любовь. Там, где все мольбы, просьбы, слезы и упреки были оставлены без ответа в течение целого года и даже нашего настоящего разговора, её материнская, всепрощающая любовь сделала свое дело. Она благословила меня быть свободным, но я вдруг не смог найти в себе сил отказать ей, когда она так во мне нуждалась.
Я бросил последний взгляд в окно, как будто это было стекло, что отделяло меня от той жизни, что я так отчаянно желал и которая никогда не станет реальностью, затем взглянул снова на мать и поцеловал её в лоб.
— Я завтра же пошлю письмо декану, с просьбой перевести меня на факультет юриспруденции. А еще одно братьям в «Арминию». Я уверен, что с их влиянием, дело будет решено уже к сентябрю.
Её благодарная улыбка и обожание, с которым она на меня тогда посмотрела, почти что стоили того. Я погладил её спину когда она обняла меня за шею. — Не волнуйся ни о чём, мама. Я обо всем позабочусь.
Нюрнбергская тюрьма, январь 1946
— Все заботятся о том, чтобы их камеры были в пристойном виде, кроме вас, герр Риббентроп.
Подметая пол камеры веником, который охранники предоставляли нам для уборки дважды в неделю, я не мог не улыбнуться уже слишком знакомым упрекам в сторону бывшего министра иностранных дел; хотя, упреки эти, нужно заметить, обычно абсолютно ни к чему не приводили. Страдая от сильной бессонницы и спя всего по три или четыре часа в сутки, Риббентроп, казалось, научился совершенно игнорировать все происходящее вокруг: судебные слушания, охрану, тюрьму — и закрывался ото всех в свое собственном мире, куда никому не было доступа. Хронический недосып нарисовал темные полумесяцы у него под глазами, и я сам не раз ловил его на том, как он бесстыдно дремал во время слушаний. Когда один из американских обвинителей гавкал что-то уж слишком громко, Риббентроп просыпался и медленно обводил зал суда своими блеклыми глазами, хмурясь, как будто бы пытаясь вспомнить, где он был и почему. А как только печальная реальность снова поглощала его, он только тихо вздыхал и снова закрывал глаза.
Я слушал, как оба психиатра вместе с охранниками пытались убедить Риббентропа хотя бы заправить кровать и подобрать скомканную бумагу, которая, судя по их ремаркам, уже покрывала ровным слоем пол его камеры; однако, вместо того, чтобы убрать её, он только ходил взад-вперед, пиная бумажные шарики со своего пути, и невнятно бормотал что-то себе под нос.
— Мистер Риббентроп. — Я узнал мягкий голос доктора Гольденсона. — Ну нельзя же жить в таком беспорядке. Прошу вас, хоть бумагу подберите.
— Оставьте меня все в покое! — Риббентроп крикнул в ответ с возмущением, с каким привык кричать на своих несчастных адъютантов когда еще был министром, в тех случаях если они имели несчастье побеспокоить его посреди какого-то важного дела.
Охранник, что был приставлен к моей камере, облокотился на открытое окошко в двери, повернул голову в мою сторону, улыбаясь и кивая в сторону камеры Риббентропа.
— Он всегда был такой? Даже когда занимал позицию в офисе? — спросил он по-немецки.
В первое время, когда его только приписали к моей камере, мы общались на английском, но вскоре он начал постепенно преодолевать свое ко мне недоверие, не чувствуя никакой враждебности с моей стороны, и даже попросил говорить с ним по-немецки и поправлять там, где он будет делать ошибки. Говорил он, впрочем, весьма неплохо, хотя и с сильным американским акцентом.
Читать дальше