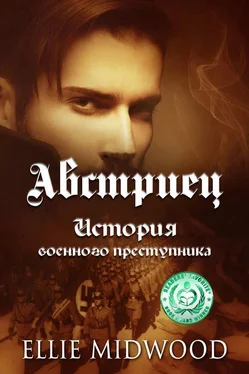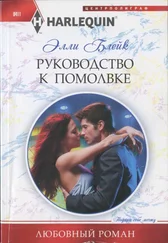Далия всегда была скромной и благовоспитанной девушкой, и потому всегда ходила, опустив глаза в пол. Кто знает, почему она сейчас подняла их всего на секунду, заметив нашу группу, и наши глаза встретились. Она замедлила шаг в неуверенности стоит ли ко мне приближаться, только едва заметная улыбка осветила её лицо.
— Эрнст, по-моему, ты понравился еврейке. — Мелита, пряча руки от холода на моей спине под пальто, заметила Далию раньше, чем я успел отвернуться и притвориться, что не видел её. Остальные отреагировали на слово «еврейка», как стая охотничьих собак, и немедленно повернули головы к её маленькой, черной фигурке.
Далия медлила еще больше, но теперь больше от беспокойства и растерянности, особенно когда новые комментарии последовали от мужской части нашей группы.
— Эрнст, да ты действительно ей нравишься! Она глаз от тебя оторвать не может, ты красавчик-кобель!
— Ну, иди сюда, евреечка, не бойся, мы не кусаемся… Только если очень попросишь, ха-ха!
— Отстань от нее, ты ей не нравишься, ей Эрнст нравится!
— Прости, евреечка, но наш друг уже почти что женат на этой красотке!
— Ой, ну что вы! — Мелита прочирикала наигранно сладким голосом. — Разве я могу стоять на пути у такой чистой любви с первого взгляда? Эрнст, пригласи девушку на ужин, не разбивай ей сердце!
Я знал, что все они ждали какого-то ответа от меня, и что от этого ответа зависел мой статус, а может и само будущее в их группе. Я затянулся сигаретой, слегка прищурил глаза и фыркнул, глядя Далии прямо в глаза:
— Нет уж, спасибо. Я с еврейками не встречаюсь.
Это было именно то, что они хотели от меня услышать, судя по всем одобрительным смешкам и хлопкам по спине, что я сразу же получил.
— Ну извини, евреечка, мы сделали, что могли!
— Иди дальше по своим делам. Может, твои чары сработают на какого-нибудь раввина!
— Может, если бы ты так не куталась во все свои юбки, он бы согласился!
Я смеялся вместе со всеми, хотя и чувствовал себя как никогда отвратительно. Далия быстро отвела глаза, уже полные слез, спешно подобрала длинную юбку и почти перебежала на другую сторону площади, подгоняемая еще более громкими и непристойными выкриками. Позже тем вечером я напился и впервые в жизни в открытую надерзил отцу.
— С чего это ты решил, что имеешь право заявляться домой в таком виде, а?!
— Да потому что я последний выродок, вот почему!!!
Я со всей силы хлопнул дверью спальни, которую делил со своими братьями, но они даже не пошевелились, хоть я и знал, что разбудил их. Мой ошеломленный отец скорее всего еще стоял посреди гостиной, решая, что со мной такого сделать. Я услышал умоляющий голос моей матери:
— Оставь его, Хьюго. Он сейчас сам не свой. Завтра с ним поговоришь, когда проснется. Он сейчас всё равно ничего не поймет из того, что ты попытаешься ему втолковать.
Я лежал поверх одеяла так и не раздевшись, смотрел неотрывно на крутящийся перед глазами потолок и впервые в жизни испытывал к себе самую настоящую ненависть.
Нюрнбергская тюрьма, январь 1946
Я лежал на кровати, уставившись в изъеденный плесенью потолок и тихо себя ненавидел, когда доктор Гольденсон открыл дверь в мою камеру, наверняка чтобы начать задавать вопросы, из-за которых я начну ненавидеть себя еще больше. Он был еще одним психиатром, кто нравился мне чуть больше, чем доктор Гилберт, хотя бы потому, что Гольденсон делал над собой усилие, чтобы обращаться с нами с холодной отстранённостю, а не с едва скрываемой ненавистью, которую излучали почти все его коллеги. Но и это было вполне понятным: Бог свидетель, мы это заслужили.
Хоть я и говорил на довольно сносном английском, я всё равно предпочитал общаться на немецком со всеми британцами и американцами вокруг, кроме агента Фостера, естественно. Никому, кроме него, я не доверял: не так поймут еще меня и напридумывают какой-то новый смысл моим словам, чтобы только втиснуть меня в их представление о типичном злобном нацисте. Доктор Гольденсон был американцем, и потому привел с собой переводчика. Я пододвинул психиатру единственный стул, что стоял у меня в камере, а сам сел рядом с переводчиком на кровать. Мне было даже приятно принимать хоть каких-то, но всё же гостей. Иногда одиночество становилось ну уж слишком невыносимым.
— Я бы хотел сегодня поговорить об одном из ваших подчиненных, — начал он, после того, как вежливо осведомился о моей мигрени, здоровье в целом и моем настроении. — Об Адольфе Эйхмане.
Читать дальше