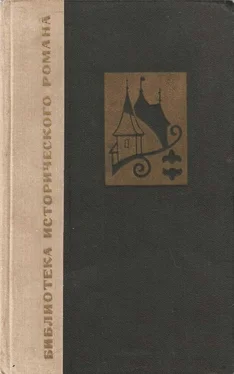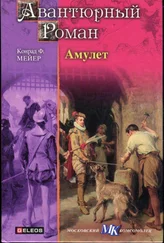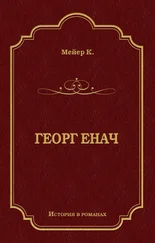Неужто он осмелится заехать за Лукрецией и предо всем светом привезти ее с собой в триумфальном шествии, как самую свою нелегкую добычу!
Но нет — он скакал впереди. Туман раздался, и она увидела, как сверкнула драгоценная сбруя его вороного, конь взвился на дыбы, а всадник махнул рукой, быть может приветствуя ее.
Меж тем туман перешел в мелкий дождь, а из-за поворота ридбергской дороги совсем близко показались лошади. Это ехал кузен Лукреции Рудольф, на сей раз с большой, не по карману, свитой, намереваясь предъявить права на гостеприимство в замке своего дяди. У большинства его спутников был довольно подозрительный и неопрятный вид. Судя по их наружности и вооружению, он набрал всю шайку в южных долинах Граубюндена. Но один, несомненно, составлял исключение. Это был огромный детина, краснорожий великан, в котором Лукреция узнала хозяйского сына из Шплюгенского подворья, буяна, своей силищей запугавшего всю округу. Он с головой прикрылся от дождя медвежьей шкурой и глядел из-под морды и ушей убитого зверя настоящим дикарем, обитателем лесов.
Всю эту разнузданную банду, которая оповестила о своем прибытии мушкетной пальбой, Лукреция приказала кастеляну устроить и накормить во флигеле. А незваного кузена она приняла лишь за ужином; вместе с ней обычно ужинала вся прислуга, а Лука исполнял обязанности мажордома.
По окончании ужина, когда прислуга удалилась, Рудольф пожелал побеседовать со своей кузиной и без разрешения остался в столовой, где Лука, по знаку синьорины, неторопливо убирал со стола. Однако и присутствие старого слуги не помешало Рудольфу подойти к Лукреции и заговорить с ней приглушенным, но угрожающим тоном. Он нагло заявил, что ему известно, кто был в Милане первым посланцем свежеиспеченного граубюнденского деспота, который завтра совершит торжественный въезд в Кур.
— Этот расточитель со своей царственной свитой и бесценными арабскими скакунами весь путь через горы следовал за мной по пятам, — завистливо сказал он. — А в Шплюгене мне пришлось уступить ему дорогу, чтобы не слушать, как его челядь за моей спиной потешается над нищенством одного из Планта.
Лукреция спокойно и гордо подтвердила цель своей поездки в Милан.
Тогда наглец совсем распоясался и обвинил ее в интимной близости с Иеначем.
— Пора кончать с ним, — орал он. — В обманутых и обиженных, которые жаждут его плебейской крови, сейчас недостатка нет. Испания, как и Франция, кишмя кишит его врагами! А ты, ты, Лукреция, постыдно забыла священный долг мщения! Ты потеряла право быть дочерью своего отца! Надо убрать негодяя, и чем скорее — тем лучше! Нельзя допустить, чтобы убийца Помпео Планта похвалялся благосклонностью его дочери! На мне лежит обязанность восстановить честь нашего рода. Как только изменник испустит дух, я женюсь на тебе. Не позволю я, чтобы достояние Планта было пущено на ветер недостойной рукой.
Лукреция не отвечала ни слова. Но у Луки сердце зашлось от злобы при виде того, как оскорбляют его госпожу; стиснув кулаки, он подошел к ней.
Гордо выпрямившись и сжав побелевшие губы, стояла Лукреция перед своим обидчиком.
— Ты сам знаешь, что каждое твое слово — ложь! — стоном вырвалось у нее из стесненной груди. И, повернувшись, она вышла вон.
Прежде чем запереться в своей башенной комнате, она послала мальчика на побегушках в Казис за отцом Панкрацио. Но патера вызвали в Альмен, откуда вряд ли его отпустят в такую ненастную ночь. Сестра Перепетуя велела сказать, что он придет завтра.
И вот Лукреция осталась одна. Она подошла к окну и выглянула в темноту ночи. Буря стихла, но на небе не было ни единой звезды. Луну заволокли густые низкие облака, и только по их неровной кромке чуть мерцал ее слабый свет. А кругом сгрудились громады туч и горных хребтов. Полночь миновала, а Лукреция все сидела у окна своей башни и без мыслей, в тупой тоске слушала, как внизу глухо бурлит Рейн. Вся ее жизнь обернулась беспредельным, беспросветным горем. Но скорбь об отце, грустную юность, нынешнее одиночество и страх перед будущим, как смутную глухую печаль, оттеснил все громче и громче звучавший, острой болью впившийся ей в сердце упрек: она недостойна своего отца. Она не пожелала за него отомстить.
Но, может быть, еще не поздно сбросить с души это бремя? Не поздно отнять у трусливого негодяя право укорять ее, заодно с ее собственным сердцем, в беспечном забвении дочернего долга? Нет! Слишком она слаба — и не хочет быть достаточно для этого сильной…
Читать дальше