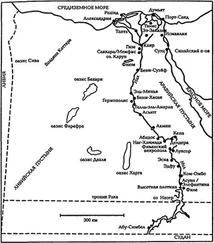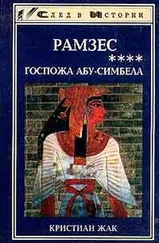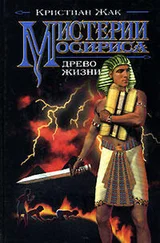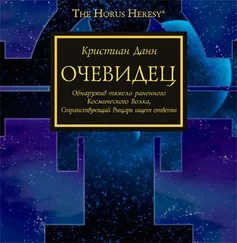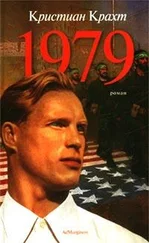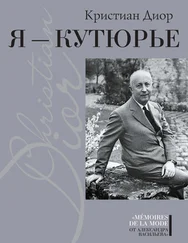Я желал бы снова вызвать к жизни постепенно утрачиваемый нами «мир тени», хотя бы в области литературы. Мне хотелось бы глубже надвинуть карнизы над дворцом литературы, затемнить его стены, отнести в тень то, что слишком выставлено напоказ, снять ненужные украшения в его залах.
Я даже не претендую на то, чтобы это было сделано во всех домах. Достаточно хотя бы одного такого дома. Отчего бы не попробовать погасить в нем электричество и посмотреть, что из этого получится?
Нэгели (уже после смерти отца) слышит слово «Фидибус» дважды, и оба раза – в связи со значимыми душевными озарениями: когда вступает на территорию некоего токийского храма (с. 109) и когда странствует по безлюдному Хоккайдо (с. 135):
Механическая птица из искусно раскрашенной жести сидит там, на дереве, на ветке, чистит клювом свою одежду из перьев и щебечет: Фи-ди-бус. Цветок вишни падает, умирая – умирает в падении, – это и есть совершенство.
Лисье семейство сопровождает его на протяжении многих дней, соблюдая безопасную дистанцию; птицы, гнездующиеся здесь, щебечут фи-ди-бус своим тянущимся по небу – на запад – товарищам.
«Механическая птица из искусно раскрашенной жести», возникающая в крахтовском Токио совершенно ниоткуда, немотивированно, – не есть ли это емкий символ искусства, к которому стремится Нэгели: «одновременно крайне искусного и отличающегося величайшей естественностью», «автореферентного», «маньеристского», «анахроничного»?
Нэгели/Крахт даже заранее предчувствует, как на такие «фокусы» («фокус» – еще одно значение слова «фидибус») может отреагировать критика (с. 141):
Здесь (на показе снятого Эмилем Нэгели фильма «Мертвые». – Т. Б.) собралось несколько заинтересованных журналистов, также друзья, которые на следующий день будут, одобрительно смеясь, показывать Нэгели газеты, где его величают авангардистом и сюрреалистом, а в «Новой цюрихской газете» – дебилом.
У Нэгели, кажется, имеется литературный предшественник. Это Юхан Нильсен Нагель – эксцентричный чудак в канареечно-желтом костюме, Ausländer des Daseins («иноземец бытия»), как он себя величает, – персонаж романа Кнута Гамсуна «Мистерии» (1892; немецкий перевод 1894). Речь идет о том самом романе, по которому Нэгели когда-то собирался снять фильм (с. 33). Из такого проекта, правда, ничего не выходит, однако и в самом конце романа Нэгели еще раз вспоминает о Гамсуне (с. 142): «Может быть, говорит он себе, может, и стоило бы еще раз позвонить в дверь к Кнуту Гамсуну».
В образе Нагеля молодой Гамсун, по мнению большинства исследователей, изобразил себя – точнее, противоречивость своей внутренней жизни, ее «мистерии». Роман и построен, в некотором смысле, как проза Кристиана Крахта – без связного сюжета, в виде череды разрозненных сцен. Вот что пишет об этой прозе англо-американский литературовед Джеймс Вуд (James Wood, p. 16–19; русский перевод цитаты из романа: Мистерии, с. 155):
В «Голоде» (1890), «Мистериях» (1892) и «Пане» (1894) этот норвежский автор положил начало той разновидности модернистского романа, которая, по большому счету, закончилась с Беккетом, – роману о сумеречных состояниях сознания и ощущении своей отчужденности, со скачками сюрреализма, с дикарской фикциональностью. <���…>
В начале «Мистерий» Нагель, как там говорится, вдруг разом очнулся от своей задумчивости. Он один в гостиничном номере, но Гамсун комментирует: «…движение, которое он при этом сделал, было таким неестественно резким, что выглядело нарочитым; можно было подумать, будто он так долго пребывал в оцепенении только для того, чтобы как можно более эффектно из него выйти, хотя и был один в комнате». Такой персонаж уже стал своей собственной аудиторией, а читатель теперь – и аудитория, и персонаж. Потому что читатель так же мало знает об этом персонаже, как и сам персонаж. В ранних романах Гамсуна персонаж не может лгать ни нам, ни себе, потому что это предполагало бы наличие хоть какого-то стабильного – подвергаемого обману – Я. Такие персонажи говорят с нами посредством потока сознания, но сам этот поток, возможно, представляет собой череду намеренных фантазий. Мы не можем это узнать, что противоречит существенной предпосылке таких внутренних монологов, заключающейся в том, что они должны нам помочь приблизиться к чьей-то душе или глубже погрузиться в нее. По Гамсуну, душа бездонна. Гамсун взорвал поток сознания в тот самый момент, когда развил этот прием больше, чем это когда-либо удавалось любому другому автору.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу