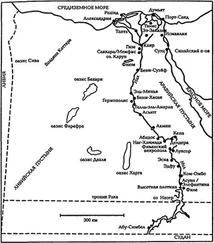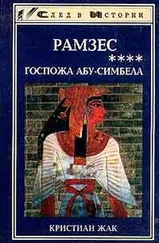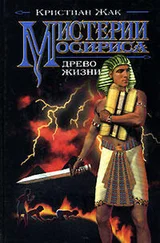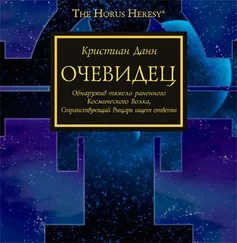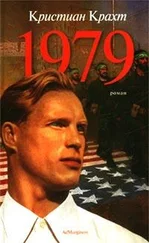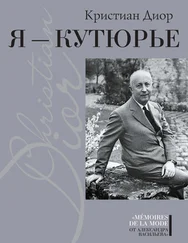Здесь ему собираются доверить грандиозный проект, сообщил его секретарь из Цюриха, проект мирового значения: Гугенберг, неприлично много золота, немецкого золота, иностранного золота, может, сто тысяч долларов, – боже, на нехватку тщеславия он может не жаловаться; и вот уже его, всему удивляющегося, везут на автомобиле по весенним улицам: в этой метрополии, видно, давно не показывают всякое старье, вроде «Конгресс танцует», как в sleepytown Цюрихе, а только действительно совсем новые, достойные внимания, радикальные, с точки зрения формы, фильмы, о них среди бела дня возвещают гипнотические неоновые рекламы гигантских размеров – сверкающей бегущей строкой, которая сама себя кусает за хвост: не успевает мерцающая фраза погаснуть впереди, как она уже начинается снова, сзади.
Отвесно, современно, зазубренно высится фасад административного здания студии – в то время как его, Нэгели, заставляют ждать внутри, в облицованном мрамором атриуме, рядом с почти засохшей пальмой в горшке, в одном из этих прогрессивно-немецких черных кожаных кресел с хромированными деталями. Там за его спиной: окна зеркального стекла, агатовые статуи, слабый аромат одеколона. Рядом с местом, где он сидит, юнец в красной ливрее усердно нажимает щелкающие кнопки двуглоточного лифта: люди торопятся войти, деловито откашливаются, с шумом взмывают вверх.
Это – средоточие мировой кинематографии; они ведь все собрались в Берлине, все, и старые, и молодые: Вине, Ланг, Пабст, Бёзе, Штернберг, Рифеншталь, Учицки, Дудов (Мурнау, правда, недавно умер в Голливуде, но ведь мысли свободны, никто про них не прознает); Нэгели вдруг ощущает настоятельную потребность причесаться, встает, безуспешно ищет туалетные комнаты: он смущен и обеспокоен, как человек, заблудившийся в нехорошем сне.
Но к нему уже спешит светловолосый непоседливый человечек (двубортный пиджак, тончайшая полоска, германец-недомерок), ритмически трясет ему обе руки, заверяет в своем глубочайшем уважении и неизменно дружеских чувствах к швейцарцам, «нашим гельветическим братьям»; все это обычная трепотня, радостно ухмыляющееся жонглирование любезностями, ему демонстрируют светлый юношеский оптимизм, чтобы никогда в жизни не мог он предположить, что за всем этим скрывается еще и что-то другое: темные гешефты, расчетливое плебейство.
Да-да-да, немецкий у Нэгели совершенно безупречен, лишен акцента, безукоризнен: гость говорит даже лучше, чем сами немцы (Хаха! Грммпффф!); Нэгели… – ах, что за вздор, он, Хайнц, отныне будет называть его просто Эмилем; и вот уже Хайнц Рюман согнутым указательным пальцем приманивает, буквально притягивает – будто тот действительно все это время ждал, прячась, как Мефистофель, за мраморной колонной, – второго немца, контрастной, можно сказать, наружности, напоминающего полуночное видение: темная кожа, темная, падающая на лоб шевелюра – маслянисто-черная, с пробором посередине; брутальные кисти рук, хорошо сидящий костюм с подбитыми ватином плечами; большой – не человек, а целый дом, – элегантный, мощный, и на мизинце золотое кольцо-печатка; вот этого, похожего на дубовый шкаф, все его здешние друзья называют Путци, Путци Ганфштенгль, смеется Хайнц; и теперь: Путци откидывает полу пиджака, вывихривает карманные часы, кругообразным движением руки отщелкивает крышку, театрально подмигивает, приподнимая одну бровь – как Яннингс, – в сторону циферблата: что у нас, дескать, ага, уже половина третьего, а мы все еще ни в одном глазу; теперь: я вас приглашаю, самое время немного поразвлечься втроем в Берлине (темное верхнебаварское, с вибрирующим язычком, «р» в словах поразвлечься, втроем и Берлин).
Нэгели пытается отмахнуться – он, мол, устал, – но тут опять вмешивается Рюман: ах, что за вздор (на сей раз даже: вздор на постном масле); тебе, швейцарец, придется составить нам компанию, тут никак не отвертишься. Да, но ведь ему назначена встреча? Ну, пусть же он наконец вникнет – двойной поклон и расшаркивание, – они и есть эта встреча, о которой он так беспокоится: они, Хайнц и Путци, at your service!
Они, значит, едут вместе в какое-то варьете поблизости от Ноллендорфплац, внутри пещерной непостижимости коего в стенах-зеркалах отражаются легко одетые танцовщицы. Шампанское (Иеровоам); стеклянный столик, кажется, изгибчиво клонится к полу. Путци гигантскими пальцами чрезвычайно бережно снимает бандероль с сигары; на его лацкане, на маленьком гербе, серебряно мерцают слоги ve-ri-tas, хвастливо возвещающие, что он является членом Гарвардского клуба. Девочки из ревю перешептываются, хихикают; Рюман чертовски рад, что его тут узнали, а Нэгели вдруг с изумлением отдает себе отчет в том, что этих двоих он просто на дух не переносит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу