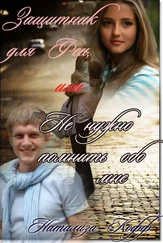Рассвет голубовато-золотистым кружевом полощется в оконце. Они сегодня переедут в новый, собственный дом. Уже и деньги уплачены.
«Увы, не жить мне в этом доме», — грустно усмехается Сухинов.
4
У Птицына в кабаке веселье, Голиков с дружками пирует. Здесь Васька Бочаров, Федор Моршаков, Сеня Семенцов, Васька Михайлов, Тимофей бесфамильный и еще беспутный Алешка Козаков. Необычно тихо идет гулянка, хотя вино рекой льется. Кроме Козакова, собрались тут люди солидные, основательные, не потерявшие к себе уважения. Перед грядущим грозным делом настроение у всех сумрачное. Чем дольше пьют, тем откровеннее разговоры. Уже и Сухинова имя не раз помянуто.
— Наш он, ребята, свои, не гляди, что из офицерья, — авторитетно разъясняет Голиков. — За ним хоть в омут — не боязно. Редкого человека нам бог послал своей малостью.
Михайлов недоволен речами товарища.
— Ты бы, Паша, прикусил язык-то.
Голиков щурится, как сослепу.
— А ты, Васька, учил бы кого дурнее себя, понял?
— Голикова не замай, тезка, — поддает жару Бочаров. — Он у Сухины на особом почете. Ему велено над всеми надзор блюсти.
Ссора не завязывается, потому что Михайлов трезв, почти не пьет и не желает скандала. Уж обо всем переговорено, надо терпеливо вечера ждать. У Михайлова на душе неуютно. Он понимает, что если они все к ночи перепьются, то толку не будет. Ему хочется пойти к Сухинову и предупредить. Только это невозможно. Не дадут ему сейчас уйти. И он сидит насупленный, злой, уставясь темным взглядом в столешницу.
Громче всех задирается и верещит никчемный Козаков. Он как из дупла выпал.
— Теперя, даст бог, прищемим хвост кое-кому, верно, Паша? С виду Леха невзрачный да шебутной, а сердце у него — огнь беспощадный. На Козакова, Паша, как на скалу обопрись и не вздрогни.
Колотун его бьет, он не молчит ни минуты, во все разговоры встревает.
— Чего ждать! — вопит. — Идем сейчас, сразу. Я первый ринусь. Эх, не жаль удалой головушки! Кого жизни лишить немедля, укажи, Паша! За тебя горло любому перегрызу. Зубов мало осталось, ногтями раздеру на куски. Самого Фришку растерзаю.
Запели песню, дремучую, протяжную. В ней тоски море, а о счастье ни полсловушка.
— Пропадай, кудрява головушка! — орет Козаков. — Протяни руку, Паша, дай поцеловать! Про меня песня, про раба божьего Алексея.
— Ты чего расходился, Лешенька? — увещевает Бочаров. — Ты остынь маленько. Вечером напляшешься. А сию минуту пошел бы поспал.
Козаков невменяем и буен.
— Сухина — тьфу! Отродье барское. Идем сами всем гуртом. Подымайся, братва! Я знаю, где у них склад. Там вина бочки, окорока! Гуляй, каторжные!
Не в пору понес мужик. На лицах, как в пещерах, темень безответная. Голиков не поленился, встал, прихватил Леху за ворот, доволок до двери, дал пинка. Козаков побрел за околицу, за поселок, там у него в кустах под дерном надежно схоронена половина штофа. Он ее вылакал жадно из горлышка, потом сидел в задумчивости — прислушивался, как вино вылизывает горькую обиду со дна души. «Ладно, — бормотал Козаков. — Ладушки! Вы Лешку пинком в зад, а он вас колуном по темечку. Токо дай ему размахнуться как следует!»
Козаков тешил себя, успокаивал, но, конечно, знал, что никогда уже и ни на кого он не размахнется и волюшки ему более не видать. Да и не нужна ему была волюшка, он забыл, что это такое. Он сросся с каторгой, с рудником и стал как растение, будто и родившееся на этой почве и тут обреченное завянуть. Но иной раз в его ущербном сознании вспыхивало не то чтобы воспоминание об иных днях и не то чтобы самолюбие, а что-то вроде желания огрызнуться и объявить кому-то, что он еще дышит и не затоптан в землю окончательно. Горючие слезы катились по его лицу. «Бедная моя головушка! — приговаривал Козаков. — Никто тебя не пожалеет! И зачем я на свет уродился? Зачем меня мамка такого родила?!» Мысль о матери, которую он не помнил, исторгла из его хилой груди рыдания, перешедшие в протяжный вой. Он лег плашмя на землю и пополз от дерева к дереву. Наконец затих и незаметно для себя задремал, уткнувшись носом в прохладный мох. Наплакавшись вволю и отдохнув, он решил, что надо все же воротиться в кабак, вымолить у Голикова прощение и тогда, возможно, его не обнесут стаканчиком. Споро зашагал к поселку. «Я им так скажу, — думал Козаков. — Вы, ребята, сироту не забижайте. Сироту забидеть — грех. А я уж вам, коли понадобится, послужу с честью!»
Проходя мимо конторы, Козаков увидел в окне знакомого человека — управляющего Нерчинской горною конторой Черниговцева. Этот момент стал роковым в истории зерентуйского бунта. Повинуясь пьяному наитию, Козаков вернулся к дверям и вошел в контору.
Читать дальше
![Анатолий Афанасьев ...И помни обо мне [Повесть об Иване Сухинове] обложка книги](/books/394501/anatolij-afanasev-i-pomni-obo-mne-povest-ob-cover.webp)