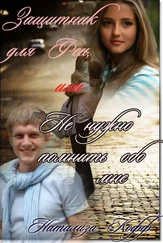Бывали минуты, когда он чувствовал себя много старше своих товарищей. Чтобы не отстать от них, не показаться чужим, он бодрился, шутил, ребячился порой не хуже Кузьмина, но это давалось ему тяжко. Что-то в строгой душе его ныло такое, что объяснить словами он бы не смог.
В откровенных разговорах Муравьев рисовал перед ним и перед другими будущее, которое было прекрасно, ради которого стоило жить, но часто, слушая его, Сухинов испытывал ощущение, будто ему читают увлекательную книгу, не более того. И он боялся пошевелиться, чтобы резким, неосторожным движением не нарушить очарование звонких книжных фраз.
Все его товарищи любят рассуждать о народе, — а много ли они знают о нем? Молодость в них играет, помыслы благородны, но жизнь скучна и уныла, не оттого ли отчасти затеяли они эту игру, которая гибелью грозит? Минует время, ну как игра прискучит? А вот ему, Сухинову, другой дороги нет. Он с этим и умрет. Поверженный ли во прах, торжествующий — уже неважно. В этой борьбе великой — единственный для него смысл. Ничто другое нерадостно и не манит, пока страданиями и скорбью залита Россия, как водой в половодье.
Стыдясь этих мыслей, однажды он спросил у Муравьева, что будет, коли их одолеют. Не с ними — это ясно, а с их делом. Муравьев ответил с мягкой своей усмешкой:
— Очень важен пример. Мы начнем, другие когда-нибудь продолжат. Народ должен увидеть, что есть силы, которые способны противостоять монарху.
Опять это прозвучало чуть по-книжному, призрачно, что ли.
Как-то Гебель вызвал его к себе на квартиру и повел загадочный разговор о настроениях в полку.
— Вы ничего такого особенного в полку не замечали, поручик? — спросил Гебель располагающим к беседе тоном.
— Замечал.
— Что именно? — оживился подполковник.
— Пьют много. Особенно у которых деньги есть. Но я так полагаю, это не от недостатка рвения, а, скорее, в связи с нынешней ранней осенью. Похолодало больно скоро.
Гебель, уловив издевку, хотел раскричаться, но, столкнувшись со взглядом поручика, сдержался.
Зато Сухинов не считал нужным сдерживаться.
— Вы, господин подполковник, доносчиков вербуйте среди своих! — сказал, злобно поджимая губы.
Густав Иванович слегка опешил, устало махнул рукой. Гебель тоже нервничал — живой человек все же. Воздух Лещинского лагеря, пропитанный какой-то опасной, вольнодумной заразой, словно переместился вместе с полком и сюда, в Васильков. Гебель это чувствовал. У него был собачий нюх. Командир третьего корпуса, генерал-лейтенант Логгин Осипович Рот, поздравляя его со вступлением в должность командира полка, не преминул заметить: «Вы уж, батенька, постарайтесь, подтяните полк». Гебель, растроганный повышением и доверием начальства, воскликнул поспешно: «О, я их еще так подтяну, не сомневайтесь, Логгин Осипович!» Он и верил, что подтянет. На своих прежних службах всегда всех подтягивал и любил это делать. Солдаты, особенно кто помоложе, при одном его появлении теряли спокойствие духа. Кулак у него был отменный, как у ямщика. Более всего подполковник Гебель верил в воспитательную силу наказания кнутом. Он привык к тому, что его боятся, и считал страх непременным условием во взаимоотношениях между командиром и младшими офицерами, не говоря уже про солдат, бессловесную скотину.
В Черниговском полку он впервые столкнулся с чем-то более серьезным, чем обыкновенные провинности или даже случаи прямого неповиновения. Подтягивать этот полк оказалось чрезвычайно трудно. Во всем чувствовалась какая-то расслабленность с намеком — избави господи! — на свободомыслие. А конкретно придраться вроде бы было не к чему. Службу солдаты и офицеры несли исправно, но в их ухмылках и замкнутости Гебель прочитывал что-то такое, от чего у него начинало чесаться под лопатками.
Его несильный от природы ум, заржавевший от долгого употребления по войсковой надобности, с огромным напряжением переваривал новые впечатления. Он все-таки уразумел, откуда идет зараза. Конечно, мутят воду эти сопливые офицерики, едва оперившийся молодняк, способный только разевать глотку, произносить пышные фразы, которые кажутся им верхом красноречия. Ох, как их презирал и ненавидел Гебель! Пустоголовые говоруны, бездельники! Смотришь на них — не царевы слуги, не защитники отечества, а какие-то тайные щелкоперы в офицерских мундирах. Наказал господь за грехи — сунул их всех к нему под крылышко. Теперь как хочешь выпутывайся. А ведь начальство, что случись, с него спросит, с Гебеля. Куда глядел? Зачем проморгал?! Начальство на опросы лихое. Тот же обходительный Логгин Осипович первый башку открутит. Его бы сюда в полк. Как бы он себя новел? Вот хотя бы с ротным Щепиллой. Бельмы выпучит, взъерошится, аки буйвол, и тоже — глянь-ка — умствует. Справедливости желает. Или этот худенький барончик Соловьев. Глядеть не на что, срамота — не воин, так поди ж ты! Слова не молвит спроста и с должным почитанием. С солдатами без конца шушукаются, по вечерам собираются все вместе. О чем шушукаются? Зачем собираются? Какой сюрприз готовят? Поди узнай. Гебель подсылал лазутчиков — безрезультатно. Осторожничают. И оттого еще тревожней на душе. Не иначе, большую пакость задумали. Вон Сухинов огненными зенками чуть не насквозь просверлил. Что такому стоит подстеречь в темноте да ткнуть ножом в бок. Или подговорить кого. А может, они жалобу на него сочиняют, рапорт строчат? Ох, поостерегись, Густав Иванович, поостерегись! У них совести нет, горения в службе не видно, присочинят чего попало, да подадут по команде. А то и чего хуже умыслят. Не учены еще, как надо, резвы чересчур, а хорошему человеку могут карьеру попортить, пятном замарать. Ему бы, Гебелю, воли побольше, он бы их враз приструнил… Тут Густав Иванович переместился воображением к своей заветной мечте и заулыбался пухлыми щеками. Мечта у него была простая и суровая: построить весь полк, вместе с офицерами, и собственноручно каждого выпороть. Он бы и обедать не стал. Так бы и порол с утра до ночи, пока пощады не запросят.
Читать дальше
![Анатолий Афанасьев ...И помни обо мне [Повесть об Иване Сухинове] обложка книги](/books/394501/anatolij-afanasev-i-pomni-obo-mne-povest-ob-cover.webp)